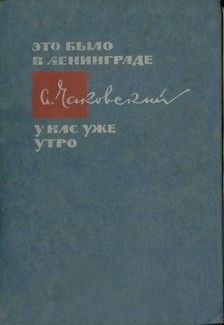Ольга Елисеева - Потемкин
Уже с 10 октября не прекращались сильные бури. С дровами было туго, и готовить кашу приходилось, используя кизяк или даже «замерзший кал человеческий». «Нет ничего сожалетельнее, — писал Цебриков, — как смотреть на горюющих солдат, которые везде по армии бродят и собирают навоз, а ежели посмотреть на их жилища полевые, то нельзя не содрогнуться от ужаса, как они могут сносить холод и стужу, укрываясь одним плащом и часто еще разорванным». Вскоре начали подвозить теплые палатки, к концу октября вырыли землянки «отменно хороши, просторны, со многими покоями — видно, что зимовать надобно». Лучший биограф А. В. Суворова позапрошлого века А. Ф. Петрушевский замечал, что «забота Потемкина о солдатах была изумительная»123, свою просторную теплую палатку князь отдал раненым, а сам переселился в маленькую кибитку. Войска были обеспечены тулупами, валенками, войлочными палатками и кибитками124. Однако даже в таких условиях воевать было нелегко — на холодном пронизывающем ветру заряжать ружья, долбить лопатами мерзлую землю, готовить еду, выходить в караул — все это уже в октябре стало мучительно, а впереди был еще целый месяц осады.
Из-за штормов гребная эскадра перестала выходить в Лиман. На плаву держались только большие суда, а мелкие тонули. Это обстоятельство вызывало большую тревогу, потому что 4 и 5 октября вернулся значительно увеличившийся флот капудан-паши. Теперь он насчитывал 87 судов различной силы и величины. А 15 октября ставку покинул Нассау-Зиген. Так и не дождавшись штурма, он уехал сначала в Варшаву, а затем в Петербург «более с досады, нежели по болезни». Воевать летом в спокойных водах было совсем не то же самое, что сейчас. Под самым носом у принца из крепости ушли 18 турецких кораблей, а он даже не пошевелил пальцем. На что Потемкин выразил ему неудовольствие, спросив, не ослеп ли Нассау. Со своей стороны принц жаловался, что «обязан подчиняться плохо рассчитанным распоряжениям». «Зная его характер, — заметил Дама, — я предвидел бурю, которая должна была разразиться. У него действительно произошел с князем Потемкиным очень горячий спор, после которого он на три дня заперся в своей палатке, не ходил к князю, ожидая все время извинений с его стороны. Но князь по своему характеру не умел ни уступать, ни склоняться перед увещеваниями, когда они выражались в неспокойной форме. Он ничем не поступился в пользу Нассау. Раздраженный этим принц написал ему, прося пропуска. В ответ он получил пропуск без дальнейших объяснений, без задержки и отбыл в Польшу»125. Его отъезд вызвал разговоры среди русских офицеров, что-де «теперь лишь только приходит время показать храбрость и неустрашимость». По поводу ухода Нассау Потемкин бросил: «Славны бубны за горами»126.
В своем желании укрыться от холодов Нассау-Зиген был неодинок. «Политической болезнью» страдал и храбрый бригадир Хосе де Рибас. Он не выдержал службы дежурного офицера при светлейшем князе — слишком много оказалось разъездов — и жаловался, что «от сей одной езды натер себе в задней мозоли»127.
12 октября лагерь покинул де Линь, «возмущенный тем, что не мог добиться от князя Потемкина действий, которые бы более сообразовались с его инструкциями, отправился на генеральную квартиру фельдмаршала Румянцева, собираясь попробовать расположить его в пользу своих желаний»128. Весельчак принц ввязался в придворную интригу и надеялся совместными усилиями с партией Воронцова «спихнуть» Потемкина, а на его место продвинуть Румянцева. Принц писал о своем отъезде: «Я оставляю дикое обхождение и азиатскую тонкость фельдмаршала (Потемкина. — О. Е.), чтобы явиться к другому (Румянцеву. — О. Е.)у коего европейские приемы скрывают некоторую благородную гордость;…он любезен, пленителен; имеет воинственный вид; внушает энтузиазм во всю армию, удерживает ее в границах дисциплины. Европа его уважает, а турки трепещут»129.
Судя по описанию, де Линь совсем не знал Румянцева — талантливого, но жесткого и грозного с окружающими. Фельдмаршала «трепетали» не только турки, но и подчиненные, семья, бывшие сослуживцы. Л. Н. Энгельгардт описал случай, когда он однажды по неведению нарушил запрет фельдмаршала салютовать тому во время марша: «Представьте мой ужас! Фельдмаршал на меня кричал самым страшным голосом; вид его представлял, чего вообразить невозможно: ноздри раздувались, глаза яростно сверкали. Как скоро я услышал этот голос и увидел страшный его вид, то так оробел, что не слыхал ни одного его слова». При всем том служивые Румянцева любили. Энгель-гардт записал их слова при встрече с командующим: «Старые солдаты говорили: "Насилу мы тебя, нашего отца, увидели". Поседелый унтер-офицер, обвешанный медалями, сказал фельдмаршалу: "Вот уж, батюшка, в третью войну иду я с тобою". — "Ну, друг мой, отвечал граф, в четвертый раз мы вместе с тобой уж воевать не будем"».
Однако любезность, пленительность, благородное обхождение и «европейские приемы» не были среди отличительных качеств знаменитого военачальника. Зато был один важный пункт, который заставлял де Линя до сих пор держаться Потемкина. Петр Александрович ненавидел австрийцев едва ли не сильнее турок. Чувство это возникло еще в годы Семилетней войны, когда он молодым генерал-майором убедился, что «цесарцы» — никакие союзники. Куда больше Румянцев уважал пруссаков, с которыми ему пришлось драться. В 70-х годах он даже совершил путешествие в Берлин, был с помпой принят Фридрихом II и на всю жизнь сохранил добрые чувства к старому королю. Когда в начале 80-х годов складывался русско-австрийский альянс, Румянцев был его противником и не раз высказывал государыне свое мнение.
Однако политическая обстановка менялась, молодые протеже Румянцева — Завадовский и Безбородко — набрали вес при дворе и посчитали выгодным создать в союзе с Воронцовым проавстрийскую партию. Теперь завзятый неприятель «цесарцев» оказался нужной им фигурой, чтобы потеснить Потемкина. Члены «социетета» умело стравливали светлейшего со старым фельдмаршалом. «Никто столько нас не злословит, как граф Александр Романович Воронцов, — доносил Гарновский. — "Когда б я был на месте графа Петра Александровича Румянцева, то дал бы я себя знать князю. Как это можно требовать, чтобы все повиновались князю? Графу цена известна. Я бы на месте его просил государыню, чтобы не только армию, но и князя поручили бы мне в команду, а иначе от всего бы отказался. Сами станут после искать. Я не понимаю, зачем нас посадили в Совет, что мы — чучелы, что ли? Нельзя ни о чем говорить; все только то хорошо, что делает князь"»130.
Но напрасно Воронцов ставил себя на место Румянцева, мечтая, чтобы «князя поручили» ему «в команду». Екатерина никому не хотела подчинять Потемкина, кроме себя. Более того, чем сильнее давили на нее, тем отчаяннее она держалась за Григория Александровича. «Не только фельдмаршал, но если б и вся Россия вместе с ним противу князя восстали, я — с ним», — сказала она Гарновскому.
Светлейший князь понимал, что миссия де Линя у Румянцева заранее провалена. Об его отъезде тоже можно было сказать: «Славны бубны за горами». Старый вояка и завсегдатай парижских светских гостиных не могли найти общего языка и только раздражали друг друга. «Цесарские войска непрестанно, хотя и не было генеральной баталии, но во многих сражениях турками были поражаемы, — вспоминал Энгельгардт. — Император неоднократно просил фельдмаршала сделать движение для диверсии в пользу австрийцев, но граф и с места не тронулся, под видом, чтобы при его движении не открыть места, через которые турки могли подать секурс Очакову. Неоднократно для сего приезжали в лагерь австрийские генералы: Иордыш, Сплени и Карачей; а сверх того, для наблюдений наших действий, при нашей армии был полковник Герберг, под исход же кампании из-под Очакова приезжал в Яссы принц де Линь. Несмотря, однако ж, на его красноречивые убеждения, фельдмаршал и шагу не сделал»131.
Покидая лагерь под Очаковом, принц де Линь заметил важную особенность: иностранные волонтеры и наблюдатели толпой повалили из армии. «Браницкий поехал в свои деревни, Нассау в Петербург…Ксаверий Любомирский и Сологуб в Польшу, а прочие генералы не знаю куда; они все соскучились здесь и почти все занемогли»132. Бросается в глаза, что именно после отъезда большинства иностранных военных развернулась деятельная подготовка к штурму. Как будто князь ждал отлета этих птиц в теплые края.
Из иностранцев остался один упрямец Дама, считавший ниже своего достоинства пасовать перед холодом. Однако парижанину пришлось зимой в степи трудновато. «Земля была на два фунта покрыта снегом, стояли морозы 12–15 градусов, да к тому же еще и ураганы с моря, часто опрокидывавшие палатки… Нельзя было лечь спать, чтобы утром не проснуться покрытым снегом… Вследствие недостатка фуража три четверти кавалерии отправлены были на квартиры… У меня оставалось всего две лошади, одну из которых я держал под наметом своей палатки, чтобы согреваться об нее… Генералы, имевшие по несколько экипажей, сохранили по одному, пожертвовав остальные на дрова… На всех солдатах были шубы и башмаки, подбитые мехом, поверх сапог, а унтер-офицеры находились в постоянном движении по всему протяжению армии и будили людей, цепеневших от холода»133.