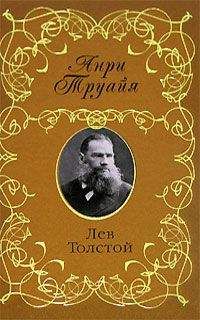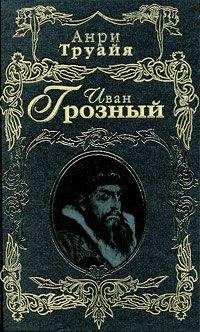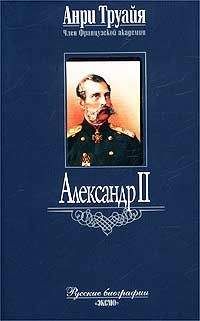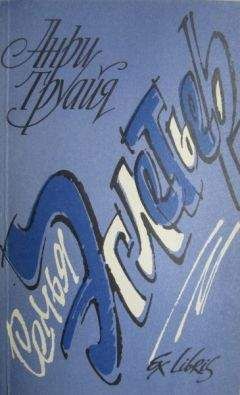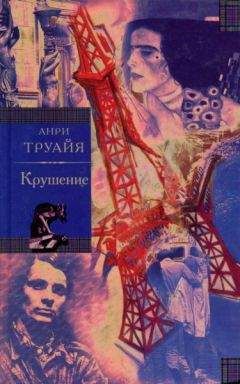Лев Толстой - Труайя Анри
Любезная и немного утомленная императрица по-французски говорила с Соней, спрашивала, давно ли та приехала и как поживает ее муж, пишет ли. На это графиня отвечала, что пишет исключительно для школ, вроде «Чем люди живы?». В этот момент в разговор с медовой улыбкой вмешалась хозяйка, сообщив, что Толстой сказал своей тетушке Александрин, будто никогда больше не станет писать роман. Императрица повернулась к Соне и прошептала: «Est-ce que vous ne le désirez point? Cela m'étonne». [519] Графиня растерялась и, не зная, что ответить, вдруг спросила, явно нарушив этикет: «J'espère que les enfants de Votre Majesté ont lu les livres de mon mari?» [520] Императрица великодушно кивнула головой и согласилась, что, да, конечно. Пересказывая слово в слово этот диалог в письме к Левочке и детям, Соня ликовала:
«Вижу отсюда, как вы все скажете: „Ну, мамаша, влетела“. Вот, право, последнее, что я ожидала в Петербурге». [521]
Левочка был холоден:
«Действительно удивительно твое счастье. Ты ведь этого очень желала. Мне это было тщеславью лестно, но скорее неприятно. Хорошего от этого не бывает. Я помню, в Павловске был человек, сидевший всегда в кустах и щелкавший соловьем. Я раз заговорил с ним и тотчас по неприятному тону угадал, что с ним кто-то говорил из царской фамилии. Как бы с тобой того же не было… Отчего же ты сказала не то, что я пишу, а что не пишу? Заробела».
Соня вернулась в Москву в последних числах февраля, а двенадцатого марта Толстой уехал в Крым со своим другом Леонидом Урусовым, тульским вице-губернатором, у которого был туберкулез в последней стадии.
Во время путешествия вновь с волнением побывал в Севастополе: на высотах, где стоял сам, и на месте вражеских батарей. Воспоминания о войне пробудили в нем, к его собственному удивлению, энергию и ощущение молодости. Обнаружив полузарытое в землю ядро и предположив, что оно было выпущено с его батареи, радовался, как ребенок. Все, что принадлежало его прошлому – даже война, – было любезно его сердцу, все, что принадлежало настоящему – даже дети, – было в тягость.
Вернувшись в Москву, Толстой сделал пометку в записной книжке:
«Нынче. Думал о своем несчастном семействе: жене, сыновьях, дочери, которые живут рядом со мной и старательно ставят между мной и собой ширмы, чтобы не видать истины и блага… Хоть бы они-то поняли, что их праздная, трудами других поддерживаемая жизнь только одно может иметь оправдание: то, что употребить свой досуг на то, чтобы одуматься, чтоб думать. Они же старательно наполняют свой досуг суетой, так что им еще меньше времени одуматься, чем задавленным работой… Еще думал: об Усове, о профессорах: Отчего они, такие умные и иногда хорошие люди, так глупо и дурно живут? От власти на них женщин. Они отдаются течению жизни, потому что этого хотят их жены или любовницы. Все дела решаются ночью». [522]
Ему самому не хотелось становиться жертвой женщины, жертвой ночных решений. И если порой уступал своим чувствам, то быстро брал себя в руки. Все лето в Ясной Поляне он косил, писал сказки и рассказы для «Посредника», доводил до конца «Так что же нам делать?», продолжал «Смерть Ивана Ильича», которая продвигалась кое-как в зависимости от настроения. Приезжали Чертков и Бирюков, Толстому казалось, что они благотворно влияли на его дочерей. Оставшись вновь один, получил в начале октября письмо от Тани, очень разумное, которое потрясло его: в отличие от матери девушка робко еще, но обращалась к идеям отца. Восемнадцатого октября последовал ответ:
«Ты в первый раз высказалась ясно, что твой взгляд на вещи переменился. Это моя единственная мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться – та, чтобы найти в своей семье братьев и сестер, а не то, что я видел до сих пор – отчуждение и умышленное противодействие, в котором я вижу не то пренебрежение – не ко мне, а к истине, не то страх перед чем-то. А это очень жаль. Нынче-завтра придет смерть. За что же мне унести с собой туда одно чувство – к своим – неясности умышленной и отчуждения большего, чем с самыми чужими. Мне очень страшно за тебя, за твою не слабость, а восприимчивость к зевоте, и желал бы помочь тебе».
Когда Лев Николаевич вновь оказался в Москве, улыбок старших дочерей уже не хватало, чтобы примирить с жизнью близких ему людей. Он подозревал Соню в том, что она за его спиной сражается с его теориями, оспаривая их перед детьми. То, что думала о нем жена, она сама написала ему со всей откровенностью, и он сохранил письмо, и каждый раз, перечитывая, холодел, понимая свое поражение: «Да, мы на разных дорогах с детства: ты любишь деревню, народ, любишь крестьянских детей, любишь всю эту первобытную жизнь, из которой, женясь на мне, ты вышел. Я – городская, и как бы я ни рассуждала и ни стремилась любить деревню и народ, – любить я это всем своим существом не могу и не буду никогда; я не понимаю и не пойму никогда деревенского народа. Люблю же я только природу, и с этой природой я могла бы теперь жить до конца жизни и с восторгом. Описание твое деревенских детей, жизни народа и проч., ваши сказки и разговоры – всё это, как и прежде, при яснополянской школе, осталось неизменно. Но жаль, что своих детей ты мало полюбил; если бы они были крестьянкины дети, тогда было бы другое». [523]
Нет, эта женщина решительно не понимала его. Она могла заботиться о нем, переписывать его рукописи, заниматься изданием его произведений, мчаться в Петербург, чтобы смягчить комитет по цензуре, но не была союзницей. Больше всего Толстого огорчало, что она стремилась и получала столько средств от публикации его книг. Даже дала объявление в газетах, чтобы привлечь новых подписчиков. Ему становилось стыдно. Но он не мог отрицать, что, как и все остальное семейство, жил за счет этих доходов. Терял всякую надежду, делился с Чертковым: «Дети учатся в гимназиях – меньшие даже дома учатся тому же и закону Божию такому, который будет нужен в гимназиях. Обжираются, потешаются, покупая на деньги труды людей для своего удовольствия, и все увереннее и увереннее, чем больше их становится, что это так. То, что я пишу об этом, не читают, что говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь, что делаю, не видят или стараются не видеть. На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцов условиях и выгодных для продажи. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня [как] на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены выжимающего сколько можно больше денег от людей за свое писанье. Ах, кабы кто-нибудь в газетах указал ярко и верно и ядовито (жалко за него, а нам как бы здорово было) всю подлость этого… Крошечное утешение у меня в семье – это девочки. Они любят меня за то, за что следует любить, и любят это». [524]
Это письмо он не решился отправить, к тому же этому помешали новые события: восемнадцатого декабря вечером между супругами опять вышел спор, Лев Николаевич объявил Соне, что больше так жить не может и хочет с ней развестись, уехать в Париж или Америку. Дети – Таня двадцати одного года, Илья, девятнадцати, Лев, шестнадцати, и Маша, четырнадцати, сидели на стульях в передней на первом этаже, время от времени подходили к двери комнаты второго этажа, прислушиваясь к голосам родителей. Мать не понимала, что произошло, отец кричал, что «если на воз накладывать все больше и больше, лошадь станет и больше не везет», «где ты, там воздух отравлен». Никто не мог вмешаться. «Ни тот, ни другая, – напишет Таня, – ни в чем не уступали. Оба защищали нечто более дорогое для каждого нежели жизнь: она – благосостояние своих детей, их счастье – как она его понимала; он – свою душу». [525] Немного погодя Соня велела принести сундук и стала укладываться, прибежали дети, стали умолять остаться. Она согласилась, у Льва Николаевича случился нервный срыв.