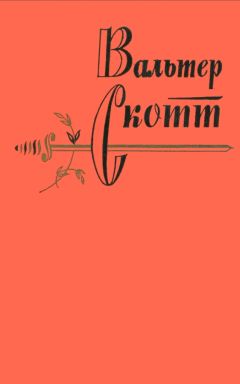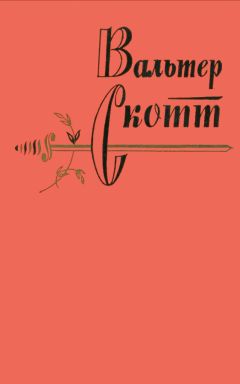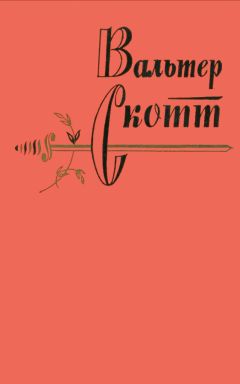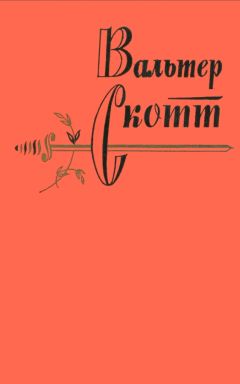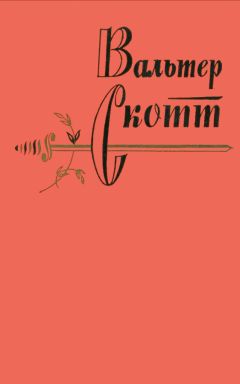Вальтер Скотт - Вальтер Скотт. Собрание сочинений в двадцати томах. Том 7
— Ты роняешь свое достоинство и честь, оскорбляя столь беззащитное существо, которое к тому же волею судьбы всецело в твоей власти. Ты знаешь, кто я и что я, и знаешь, что ни от Ментейта, ни от тебя я не имею права выслушивать иных слов, кроме дружеских. Ты знаешь, какому злосчастному роду я, должно быть, обязана своим появлением на свет.
— Не верю я этому! — пылко воскликнул Аллан. — Никогда еще кристальная струя не била из грязного источника.
— Но если в этом есть хоть малейшее сомнение, — возразила Эннот, — ты не должен так говорить со мной.
— Знаю, — промолвил Мак-Олей, — это ставит преграду между нами… Но я знаю также, что эта преграда не столь безнадежно отделяет тебя от Ментейта… Послушай меня, любимая! Покинем зрелище этих страданий и смерти, поедем со мной в Кинтейл. Я поселю тебя в доме благородной леди Сифорт или же тебя доставят под надежной охраной в Айколмкил, в святую обитель, где женщины, по обычаю наших предков, заняты служением богу.
— Ты сам не знаешь, что говоришь, — возразила Эннот. — Пуститься в такой дальний путь вдвоем с тобой, под твоей охраной, — это значило бы забыть о том, что приличествует молодой девушке. Я останусь здесь, Аллан, здесь, под защитой благородного Монтроза. А когда его войска дойдут до предгорья, я найду способ освободить тебя от присутствия той, которая по неведомой ей причине лишилась твоего расположения.
Аллан продолжал молча стоять перед ней, словно не зная, уступить ли чувству сострадания или дать волю гневу, который вызывало в нем ее упорство.
— Эннот, — сказал он наконец, — ты хорошо знаешь, как мало истины в твоих словах о моих чувствах к тебе. Ты пользуешься своей властью надо мной и радуешься моему отъезду, ибо никто больше не будет подсматривать за тобой и Ментейтом. Но берегитесь оба! — добавил он грозно. — Ибо слыхал ли кто, чтобы Аллану Мак-Олею была нанесена обида и он не отплатил за нее в десять раз более страшной местью!
Он с силой стиснул ее руку, надвинул шапку до самых бровей и быстрым шагом вышел из покоя.
Глава XXI
Вскоре вы ушли.
И я узнала, что во мне есть сердце
И что оно трепещет от любви!
Да, то была любовь, не вожделенье!
И лишь вблизи от вас иль рядом
с вами
Жить и дышать — вот все,
что нужно мне!
«Филастр»[128]Признание Аллана в любви и его вспышка ревности показали Эннот Лайл, какая страшная пропасть разверзлась перед нею. Ей чудилось, будто она скользит по самому краю этой пропасти, не зная, где найти пристанище, у кого искать защиты. Она давно уже поняла, что любит Ментейта не как брата; и могло ли быть иначе, если вспомнить их близость с самых детских лет, личные качества молодого дворянина, постоянное внимание к ней, его мягкий нрав и обходительность, столь непохожую на обращение суровых воинов, среди которых она жила. Но любила она любовью тихой, робкой и мечтательной, которая довольствуйся счастьем возлюбленного, не питая для себя никаких надежд. Гэльская песенка, которую она часто Напевала, хорошо выражает ее чувства, и мы охотно приводим здесь эти строки в переводе даровитого и злополучного Эндрю Мак-Доналда:
Делить твой жребий сладко было б мне,
Будь ты, как я, рожденным в скромной доле.
Везде с тобой, куда б в одном челне
Ни влек нас ветер, веющий на воле.
Разлучены законом роковым,
Мы разошлись — нас ждет судьба иная.
Пускай твоя легка — живу одним:
Молиться за того, кому верна я.
Ту боль, что сердце глупое пронзит,
Когда надежда навсегда покинет,
Ту боль не выдаст горький стон обид,
И лепет жалоб на устах застынет.
И по тропам оставшихся мне дней
Пусть плакальщицей бледной не бреду я,
Пока я знаю, что еще больней
От слез моих тому, кого люблю я.[129]
Неожиданный порыв Аллана разрушил ее романтические грезы о беззаветной, тайной любви, не требующей награды. Она уже и раньше опасалась Аллана, невзирая на всю свою признательность к нему; к тому же она видела, что ради нее он всегда старался обуздать свой надменный и жестокий нрав. Но теперь Аллан внушал ей непреодолимый ужас, вполне оправданный тем, что она знала о нем и о его прошлом. При всем благородстве своей натуры он не умел умерять своих страстей, он ходил по замку и владениям своих предков, словно укрощенный лев, которому не смеют прекословить, дабы не разбудить в нем его кровожадные инстинкты. Уже много лет никто не противоречил его желаниям и не пытался хотя бы усовестить его, и, должно быть, только природный здравый смысл, — который он проявлял во всем, если не считать его мистических, настроений, — помещал ему стать бедствием и угрозой для всего края. Но Эннот не пришлось долго предаваться своим невеселым думам, ибо пред ней внезапно предстал сэр Дугалд Далыетти.
Легко можно себе представить, что весь уклад жизни доблестного воина не подготовил его к тому, чтобы блистать в женском обществе; он сам смутно понимал, что язык казармы, кордегардии и учебного плаца не подходит для беседы с дамами. Единственная мирная пора его жизни протекла в эбердинском училище, но он уже успел забыть то немногое, чему там выучился, за исключением собственноручной починки белья и искусства с необыкновенной быстротой поглощать пищу, ибо и в том и в другом ему неустанно приходилось упражняться. И все же именно обрывки воспоминаний о том, чему он научился в это мирное время своей жизни, служили ему источником вдохновения для беседы, когда он оказывался в обществе женщин; иными словами, речь его становилась книжной, как только она переставала быть солдатской.
— Сударыня, — начал он, — перед вами точное подобие копья Ахилла, один конец которого обладал свойством наносить рану, а другой — заживлять оную; свойство, которое не присуще ни испанским пикам, ни алебардам, ни протазанам, ни секирам, ни палицам и вообще ни одному из современных видов холодного оружия.
Эту тираду Дальгетти произнес дважды; но так как в, первый раз Экнот едва слушала его, а во второй не поняла ни слова, ему пришлось выразиться яснее.
— Я хочу сказать, сударыня, — пояснил он, — что, будучи причиной тяжелой раны, нанесенной в сегодняшнем сражении одному почтенному рыцарю, поелику он, против всяких правил войны, пристрелил из пистолета моего коня, нареченного Густавом в честь великого шведского короля, — я желал бы доставить одному рыцарю облегчение, каковое вы, сударыня, могли бы ему оказать, ибо вы, подобно языческому богу Эскулапу (майор, вероятно, имел в виду Аполлона), искусны не только по части музыки и пения, но и в более высоком деле врачевания… Opifer que per orbem dicor.[130]
— Если бы вы только были так добры объяснить мне, что вам угодно, — проговорила Эннот, слишком опечаленная, чтобы забавляться витиеватой галантностью сэра Дугалда.
— Это не так-то легко, сударыня, — отвечал рыцарь, — ибо я несколько запамятовал правила грамматики. Но, впрочем, попробую. Dicor, приставив ego, означает: «Я называем…» Opifer? Opifer? Припоминаю: signifer[131] и furcifer…[132] Кажется, opifer означает в данном случае Д. М. — то есть «доктор медицины».
— Нынче хлопотливый день для всех нас, — сказала Эннот, — не можете ли вы просто сказать, что вам от меня нужно?
— Только одно, — отвечал сэр Дугалд, — чтобы вы навестили моего собрата-рыцаря и приказали бы своей девушке отнести ему какое-нибудь лекарство для раны, которая, как выражаются ученые, угрожает нанести damnum fatale.[133]
Эннот Лайл никогда не медлила, когда кто-нибудь нуждался в ее помощи. Осведомившись о ране старого вождя, чья благородная наружность столь поразила ее в замке Дарнлинварах, она поспешила, к нему, радуясь, что может забыть о своих горестях в облегчении чужих страданий.
Сэр Дугалд весьма торжественно проводил Эннот Лайл в комнату больного, где, к своему изумлению, она застала лорда Ментейта. Она невольно вспыхнула при встрече с ним и, чтобы скрыть свое смущение, немедленно принялась осматривать рану рыцаря Арденвора; она тотчас же убедилась, что ее искусство недостаточно, чтобы залечить ее. Что касается сэра Дугалда, то он немедленно возвратился в большой сарай, где на полу, среди прочих раненых, лежал Раналд, Сын Тумана.
— Вот что, дружище, — сказал ему рыцарь, — как уже говорил тебе раньше, я готов сделать все, чего ты ни пожелаешь, во искупление той раны, которую ты получил, будучи под моей охраной. Поэтому, по твоей настоятельной просьбе, я послал Эннот Лайл ухаживать за рыцарем Арденвором, хотя убей меня бог, если я знаю, зачем тебе это понадобилось. Мне помнится, ты что-то говорил мне об их кровном родстве; но у воина в моем чине и звании есть дела поважнее, чем забивать себе голову вашими дикарскими родословными.