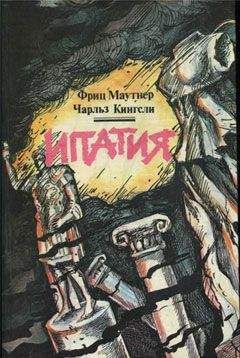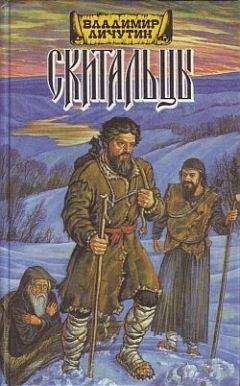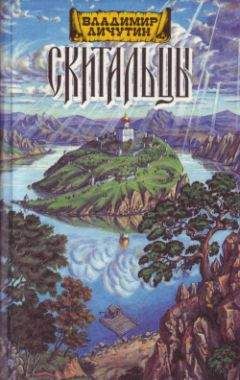Владимир Личутин - Скитальцы
И, в одно время взявши меня в особую горницу, сказала: «Я давно с тобой хочу побеседовать. Садись возле меня!» И посадила, схватила крест и хотела привесть меня, и говорила: «Приложись к кресту». А я взял крест от нее и сказал: «Дай-ка я тебя приведу самое снова». И она, не слыхавши от меня никогда слов, удивилась оному, сказала: «Ах! и ты говоришь!» И тут накатил на нее дух, и она сделалась без чувств, упала на пол. А я испугался, подул на нее своим духом. И она как от сна пробудилась, встала и перекрестилась, сказала: «О Господи! Что такое со мною? О! Куда твой бог велик. Прости меня». Взяла и приложилась ко кресту, и говорила: «Ах, что я про тебя видела!» А я сказал: «А что такое видела? Скажи, так и я тебе скажу». И тогда она стала мне сказывать, что от меня птица полетела по всей вселенной всем возвестить, что я бог над богами, и царь над царями, и пророк над пророками. Тут я ей сказал: «Это правда! Смотри же, никому об этом не говори, а то плоть тебя убьет!»
Громов вышагивал крупно, машисто, и Клавдя едва успевал, но чуть стороною, весь настороже, готовый, ежели что, дать деру. Громов оглядывался, сквозь пробивал парня туманными осоловелыми глазищами и хмыкал, видя всю несуразность обличья и одежонки – от камчатной рубахи до потной тканины на плечах, которую побро-дяжка никак не хотел сымать, словно бы камень адамант зашит в полах.
– Глазищами-то зыришь... Бог, што ли? Так и прошибат! – не сдержался Клавдя, польстил, по-собачьи преданно заглянул сбоку и шмурыгнул носом.
– Может, и бог, – странно сказал Громов, ничуть не удивляясь.
– Да ну-у! Вот врать-то горазд.
И они разом засмеялись. С такой-то вот веселостью в лице вошли в торговый дом Яковлевых, сразу подлетел вьюн-приказчик в синей поддевке, волосы пивом смазаны, на лбу кучерявинка. Глаза сметливые, угодливые, но за близкой подобострастностью таилась та дерзость, без которой и дня не прожить.
– Чего изволите-с, гостеньки дорогие?
И готов был переломиться. А Клавдя на ус мотал и сразу все обсмотрел: и зеркала, и одежды всякие, и этого приказчика в высоких вытяжных сапогах – и все ему нравилось, и все оседало в готовном сердце.
– Да вот братика моею приодень-ка, дружок.
Приказчик живо забегал, засуетился, на ходу метал слова, бисер сыпал под ноги, и Клавдя каждое слово ловил и крепко запоминал. Все годилось в будущей жизни.
– Вы смотрите! Смотрите, что даю! Это кафтан из всего рынка! Сшито, чю слито! Ни боринки, ни морщинки! Нигде не придерешься! Строчка, так уж строчка! Материя, так уж материя! Будешь носить, да нас благодарить, да поминать дедушку Гаврила, что дал кафтан на диво...
– Всякий купец свой товар хвалит...
– Хороший товар, сударь, сам себя хвалит. Наш товар не стыдно показать, не стыдно и в ручки взять! Не стыдно в него нарядиться, не стыдно в нем и по улице прокатиться! У меня не купишь – всю ночь не будешь спать да сам себя ругать! Да говорить: «Да какой же я дурак! Да какой я товар проморгал! Товар давали – клад, а я кладу был не рад...»
– Похвальба хороша, да и цена недурна, – торговался Громов.
– Сам не турок... хваленый товар дольше носится.
У Клавди голова кругом. Глядь, уж разодет парень, как картинка, кафтан синего сукна немецкого покроя, да рубаха крапчатая, да жилет синий же, да штаны полосатые, сапожки мягкие, юфтевые, нога не слышит, на голове шляпа пуховая.
Расплачивался Громов солидно, по мненью Клавди, кредитками сорил, а в пачке, которая утонула в поддевке, было, чай, не меньше полтысячи. Подобных денег в одной чтоб руке – не видывал парень, и вовсе голова поплыла, как во сне был.
А Громов повел братца в белую харчевню и там ухою из осетрины накормил да кулебякой с визигою. Сам же не ел, скучнел отчего-то, лицо еще более набрякло луковой желтизною, а рыжие волосы, подбитые в скобку, потускнели.
– Сам-то, батюшко, поел бы. С голоду-то быстро замирают. – Клавдя не знал, как отблагодарить, и есть старался смирнее, чтоб скрыть голодную истому, но умом изворачивался, не зная, за что такая милость подвалила. Не пора ли руки в ноги да и отваливать прочь, пока шея от ярма свободна.
Но смываться отчего-то не хотелось, разморило Клавдю от пареного-вареного, так жирно, пожалуй, еще и не кушивал: куда от такой жизни стремиться? Душа от горячего захмелела, и парень все чаще подвертывал носом на сторону, будто вынюхивал что. Посмотреть ежели со стороны, то будто бы все крупные черты – и глаза, и нос, и широко растянутый кривоватый рот – норовили сбежать с лица – столь суетливы были они и хитры.
– Горяченького-то не хлебнешь, дак черева как пустынь... Сделайте милость, – Клавдя подвигал чашу, будто он угощал, – мне не жалко. – Схлебните чего ли, отец милостивый.
Но Громов отказался.
– Пойдешь за мною? – вдруг предложил. – Сыном будешь. По времени все отпишу. Люб ты мне, парень. Бог на тебя наслал.
– Пойду, как не пойти. Как нитка за иголкой. Куда ни позови.
Ведал бы Клавдя, когда соглашался, за кем пошел...
Страды Селиванова «... А жил я в городе Туле в доме у жены мирской, у Федосьи Иевлевой грешницы, у ней в подполье. Она меня приняла, а свои не приняли, и они же доказали и привели к ней в дом команду солдат. А я в то время был в подполье. Стали солдаты ломать пол – и не нашли меня. Так два раза приходили и не нашли. В третий раз пришли, ломали пол и нашли меня в подполье.
И вытащили меня за святые волосы, и Бога не страшась, и тут все били чем попало, без всякой пощады; и поясок с меня сняли, и крест, и ручки назад завязали, и назад гири привязали. И повели великим конвоем, и шпаги обнажили, и со всех сторон меня ружьем примкнули: одним ружьем в грудь, а другим сзади, только что меня не закололи. Привели меня в Тулу и посадили на крепком стуле. И перепоясали меня шелковым поясом, железным, фунтов в пятнадцать, приковали меня к обеим стенам и за шейку, и за ручки, и за ножки и хотели меня тут уморить. И были завсегда четыре драгуна на часах, и в другой комнате сидели мои детушки трое, которые на меня доказали, и было сказано поутру сечь их.
Но мне их стало жаль, и я со креста сошел, и все кандалы с меня свалились, а драгуны в это время все задремали и меня не видели, как я прошел. И я своих детушек нашел и говорил им: «Детушки, не бойтесь! Ничего вам не будет, и будете вы отпущены. А я уж один пойду на страды за всех своих детушек прославить имя Христово и победить змия злова, чтобы он на пути не стоял и моих детушек не поедал».
И тут меня хватились, и все злые удивились, а иные устрашились, и по всем местам бросились. И нашли меня на дворе, я по двору гулял. Из железа ушел, а со двора не пошел. Отец Небесный мне не велел, а приказал мне сию чашу испить. И тут мне от нечистых велик допрос был. И ротик мне драли, и в ушках моих смотрели, и под носом глядели, говорят: «Глядите везде! Есть у него где-нибудь отрава». И тут мне в личико плевали, и все тут меня били, кто чем попало, и тут мою головушку сургучом горячим обливали. И приказ был отдан, чтобы близко ко мне не подходить, чтобы на кого-нибудь не дунул или не взглянул: вишь, говорят, он великий прелестник, и чтобы не приворотил. И великим назвали волхвою, так прежде Господа называли волхвою: «Он всякого прельстит, он и царя прельстит, не довольно что нас! Его бы надо до смерти убить, да приказ не велит. Смотрите, кормите его да бойтесь, и подавайте ему хлеба на шестике!» И хлебовые подавали, ложка была сделана аршина полтора: «Подавайте ему да прочь отворачивайтесь».
И повезли меня из Тулы в Тамбов, а оттуда в Сосновку с великим конвоем меня наказывать. Народ за мной шел полки полками, и ружья, и шпаги у солдат были наголо, а у мужиков было у всякого в руках палка. Тут меня сосновские детушки встретили и говорят: «Везут нашего родного батюшку!» И плакали все слезно, и тут вдруг поднялась великая буря и сделался в воздухе шум и пыль, что за тридцать саженей никого не видать. И стали наказывать меня кнутиком, и секли долгое время так, что не родись человек на свете. И мне стало весьма тошно, и стал я просить всех своих верных и праведных: «О верные, о праведные! Помолитесь за меня и помогите мне вытерпеть сие тошное наказание. О! Отец Небесный! Не оставь меня без помочи, и помоги мне все определенное от тебя вынести на моем теле, и если да поможешь, то наступи на злова змия и разорви всю лепость до конца». Тогда мне стало полегче, и тогда указ подоспел, чтобы до смерти не засечь. И эти иудеи заставили моих детушек меня держать. И тут всю рубашечку мою окровенили с головушки до ножек, вся стала в крови, как в морсу. И тут мои детушки мою рубашечку выпросили, а на меня свою беленьку надели. И тут я им сказал, что я с вами не увижусь со всеми. И тут мне стало очень тошно, и я сказал им: «Не можно ли мне дать парнова молочка?» Но злые сказали: «Вот еще, лечиться хочет!» Однако умилились, отыскали и мне дали. И как я напился, мне стало полегче и сказал: «Благодарю Бога».
И теперича в Сосновке, на котором месте меня секли, поставлена церковь, а тогда мои детушки были люди бедные. И я им сказал: «Только храните чистоту, и всем будете довольны, тайным и явным. Всем вас Отец мой Небесный наградит и оградой оградит, и нечистой не будет к вам ходить. А чужих пророков себе не принимайте!» И повезли меня из Сосновки в Иркутск, посадили меня в повозку, и ножки мне сковали, и ручки сковали по обеим сторонам телеги, а за шейку железом к подушке приковали. Злой нечистому приказывал: «Смотрите, не упустите! Такова еще не было и не будет: хошь ково обманет!» И повезли за строгим конвоем. В ту пору Пугачева везли, и он на дороге мне встретился. И тут который народ меня провожал, за ним пошли, а который его провожали, за мной пошли. И везли меня полтора года сухим путем и водою...»