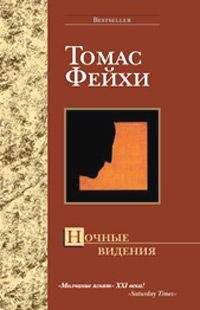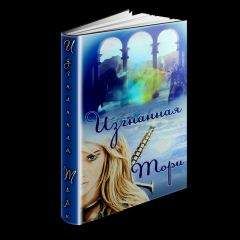Морис Дрюон - Французская волчица. Лилия и лев (сборник)
Именно в таких местах и доходили до Робера вести о том, что делается во Франции, узнавал он их от торговцев, возвращавшихся с ярмарки, или от содержательниц непотребных домов, которые умели разговорить путешественников.
Летом 1332 года Филипп VI оженил своего старшего сына Иоанна, герцога Нормандского, на дочери короля Богемии Бонне Люксембургской. «Ах, так вот почему Иоганн Люксембургский велел своему родичу выставить меня из Брабанта, – решил Робер, – вот какой ценой оплатили его услуги!» По рассказам очевидцев, празднества в честь этого бракосочетания, состоявшегося в Мелене, пышностью своей превосходили все пиры и торжества, бывавшие доселе.
А Филипп VI, воспользовавшись тем, что в Мелен съехалось разом столько принцев крови и высшей знати, велел в торжественной обстановке пришить к своей королевской мантии крест. Ибо на сей раз вопрос о крестовом исходе был решен окончательно. Петр Палюдский, патриарх Иерусалимский, тоже прибывший в Мелен, вещал с соборной кафедры, и все шесть тысяч приглашенных на бракосочетание, в том числе тысяча восемьсот немецких рыцарей, дружно лили слезы умиления. Крестовый поход проповедовал в Руане епископ Пьер Роже, только что получивший эту епархию после Аррасской и Санской. Поход был назначен на весну 1334 года. В портах Прованса – в Марселе, в Эг-Морте – спешно строили целую флотилию. А епископ Мартиньи уже плыл по морям, ибо уполномочен он был передать вызов на бой Египетскому Судану!
Но ежели короли Богемии, Наварры, Майорки, Арагона, состоявшие, так сказать, в прихлебателях у короля Франции, ежели герцоги, графы и крупнейшие бароны, а также некоторые рыцари, любители военных авантюр, с восторгом последовали примеру французского короля, то провинциальные дворянчики с куда меньшим воодушевлением брали из рук проповедников красные, вырезанные из сукна кресты и не так уж рвались вязнуть в египетских песках. А король Англии в свою очередь отмалчивался, будто никакого похода в Святую землю и не предполагалось, а сам спешно обучал свой народ военному делу. И дряхлый папа Иоанн XXII, к тому же жестоко разругавшийся с Парижским университетом и его ректором Буриданом по вопросу о блаженном видении, тоже ухом не вел. Он только в весьма сдержанных выражениях благословил крестовый поход, но явно жался, когда его просили принять участие в общих на это расходах… Зато торговцы пряностями, благовониями, шелками, священными реликвиями, а также оружейники и кораблестроители, что называется, из кожи вон лезли, готовясь к походу.
Филипп VI уже назначил регентский совет на время своего отсутствия и взял клятву с пэров, баронов, епископов{64} в том, что, ежели ему суждено окончить дни свои в заморских краях, они беспрекословно будут во всем повиноваться сыну его Иоанну и коронуют его на престол без дальних слов.
«Значит, Филипп не так-то уж уверен в законности своего правления, – решил про себя Робер Артуа, – раз он заранее хлопочет о том, чтобы сына его уже сейчас признали наследником престола».
Сидя за столом в харчевне перед кружкой пива, Робер не посмел признаться своим случайным собутыльникам, сообщившим ему эту весть, что он лично знаком с великими мира сего; не посмел он также признаться им, что состязался на копьях с королем Богемским, раздобыл митру для Пьера Роже, что подбрасывал на коленях теперешнего короля Англии и делил застолье с самим папой. Но запомнил все в надежде, что рано или поздно сумеет обернуть эти события себе на пользу.
Его держала только ненависть. Сколько лет ему отпущено еще прожить на этом свете, столько лет при нем останется эта оголтелая ненависть. В какой бы харчевне ни проводил он ночь, эта ненависть будила его с первым солнечным лучом, пробивавшимся в незнакомую комнату сквозь щелочку ставен. Ненавистью, как солью, он приправлял свою еду, ненависть стала его путеводной звездой.
Принято считать, что люди, сильные духом, как раз те, что умеют признать свою неправоту. Но, быть может, еще сильнее тот, что никогда ее не признает. Робер принадлежал именно к этим, ко вторым. Всю вину он валил на других, на мертвых и на живых: на Филиппа Красивого, на Ангеррана; на Маго, на Филиппа Валуа, на Эда Бургундского, на канцлера Сент-Мора. И от одного перегона до следующего все рос и рос список его врагов, куда он внес уже и свою сестру графиню Намюрскую, и своего свояка Геннегау, и Иоганна Люксембургского, и герцога Брабантского.
В Брюсселе он приблизил к себе весьма подозрительную личность, стряпчего по имени Ги, и его секретаря Бертело; так, с этих двух сутяг, он и начал сколачивать свой двор.
В Лувене стряпчий Ги раскопал монаха, невзрачного на вид и весьма неблаговидного поведения, некоего брата Анри де Сажбрана, который больше понаторел в ворожбе и угодных сатане делах, нежели в молитвах и милосердии. Припомнив уроки Беатрисы д'Ирсон, бывший пэр Франции с помощью брата Анри де Сажбрана давал христианские имена вылепленным из воска фигуркам и протыкал их иглой, приговаривая: «Вот это Филипп, это Сент-Мор, а это Матье де Три».
– А вот эту, видишь, эту, постарайся-ка проткнуть от макушки до пяток, ибо звать ее Жанна, она же хромоногая королева Франции. Только никакая она не королева, а сущая дьяволица!
Он раздобыл также симпатических чернил и писал на пергаменте заклинания, кои должны были упокоить вечным сном того, чье имя упоминалось в заклятии. Правда, требовалось еще сунуть пергамент в постель того, от кого надо было отделаться! Брат Анри де Сажбран, получив некоторую толику денег и целую кучу обещаний, отправился во Францию под видом нищенствующего монаха, запрятав под рясу целый пук заклятии, долженствующих упокоить вечным сном всех упомянутых в этих бумажонках.
Со своей стороны Жилле де Нель вербовал наемных убийц, воров по призванию, всех сумевших убежать из тюрьмы молодчиков со зверскими рожами, которые готовы были на любое преступление, лишь бы не гнуть на поле спину. И когда Жилле вымуштровал своих доблестных вояк, Робер отрядил их в королевство Французское и повелел действовать преимущественно в дни больших сборищ или празднеств.
– Когда все глаза устремлены на ристалища или же в ушах стоит звон от проповедей, призывающих к крестовому походу, спина являет собой превосходную цель для кинжала.
После многодневной гонки по дорогам Робер сильно исхудал; морщины избороздили гладкое лицо, и злоба, сжигавшая его с минуты пробуждения до поздней ночи, не оставлявшая его даже во сне, придала его чертам какую-то законченность. Но в то же самое время от всех своих многочисленных приключений он помолодел душой. Ему нравилось в новых странах пробовать новые кушания, да и новых женщин тоже.
И если его попросили покинуть Льеж, то не за его былые прегрешения, а за то, что он нанял себе дом у некоего господина Аржанто и с помощью верного своего Жилле превратил его в настоящий притон с веселыми девками, так что шум по ночам мешал спать соседям.
Выпадали у него и славные деньки, выпадали и скверные, как, скажем, тот день, когда он узнал, что брата Анри де Сажбрана схватили в Камбре вместе со всем его грузом заклятий; был и другой, но лучше, когда один из его наемных убийц, вернувшись, объявил, что все его дружки не сумели пробраться дальше Реймса и что гниют они сейчас в тюрьмах «короля-подкидыша».
А тут еще Робер заболел, причем самым глупейшим образом. Как-то, когда он тихо жил в домике на самом берегу канала, где происходили состязания на шестах с лодок, он любопытства ради просунул голову до самой шеи в отверстие верши, которой было затянуто окошко. И просунул так здорово, что освободился лишь с трудом, расцарапав себе все щеки о проволоку. Царапины загноились, и вскоре у него началась лихорадка; четыре дня он стучал зубами в ознобе и уже готовился отойти в лучший мир.
Фламандские края ему окончательно опостылели, и он отправился в Женеву. Тут, болтаясь без цели по берегам озера, он узнал, что схватили его супругу графиню де Бомон и его троих сыновей. Филипп VI, желая наказать Робера, не остановился перед тем, чтобы заточить собственную свою сестру сначала в Немурскую башню, а затем в Шато-Гайар. В узилище Маргариты! Воистину Бургундия сумела взять реванш!
Из Женевы Робер Артуа под вымышленным именем, в скромной одежде горожанина пробрался в Авиньон. Тут он пробыл две недели и усиленно плел интриги в защиту своего правого дела. Столица христианского мира утопала в злате и окончательно погрязла во гресях. Только здесь тщеславие, суетность, пороки скрывались не под турнирными латами, нет, скрывались они под сутанами священнослужителей; свидетельством мощи были не наборная сбруя чистого серебра или шлем, украшенный страусовыми перьями, а митры, украшенные драгоценными камнями, золотые дароносицы, пожалуй вдвое тяжелее, чем кубок короля. Здесь сводились счеты не на поле боя, здесь ненавидели ближнего в ризнице. Исповедальни и те стали ненадежными; а женщины были изменчивее, злее, порочнее, чем где бы то ни было, коль скоро только путем греха они могли пробиться в знать.