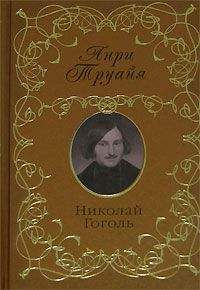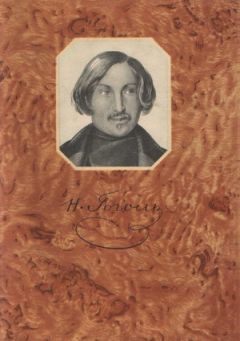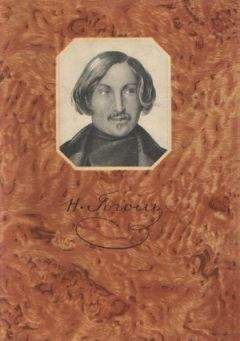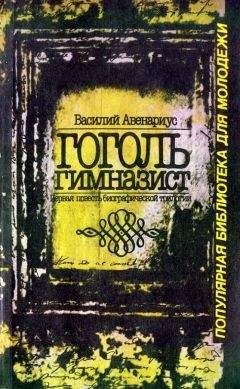Николай Гоголь - Труайя Анри
Что же должно было произойти, чтобы граф и графиня сказали «да»? Безусловно, обезумев от своей неудачи и утеряв свой шанс, Гоголь порывался выброситься из окна, как Подколесин в «Женитьбе». Но Небо наблюдало за ним. После этого неожиданного отказа он мог со всем спокойствием быть несчастным. Какая жалость! Как могли эти люди, которые принимали его у себя с такой любезностью, захлопнуть двери перед его носом из-за того, что он любит их дочь? Определенно, думал он, кастовые предрассудки имеют большую силу, чем христианский дух в великосветских русских семьях. Пожелав взять Анну в супруги, он переступил дозволенное и стал кающимся грешником. Будет ли она грустить в связи с этим разрывом их отношений. Она еще так молода, так уязвима, так благоговейно повинуется своим родителям! Она его забудет! В полном смятении он направляет ей прощальное письмо, которое, как он считает, прояснит и отразит крайнюю запутанность его чувств:
«Мне казалось необходимым написать вам, хотя бы часть моей исповеди. Принимаясь писать ее, я молил Бога только о том, чтобы сказать в ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. Нужна ли вам, точно, моя исповедь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого сердца моего, или же с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Совершенно откровенная исповедь должна принадлежать Богу. Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состоянье мое так было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было еще тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было испросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношенья к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, все случилось оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое очень важное взглянули легко, по крайней мере, гораздо легче, чем следовало. Вы бы все меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них! Я бы к вам приехал также. Мы бы все вместе принялись дружно хозяйничать и заботиться о них, а не о себе. Право, это было бы хорошо и для здоровья и веселей, чем обыкновенная бессмысленная жизнь на дачах. А если бы при этом каждый помолился покрепче богу о том, чтобы помог ему исполнить долг свой – мы бы, верно, все стали через несколько времени в такие отношенья друг к другу, в каких следует нам быть. Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении вас, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношенья наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущеньем, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека, от которого должны вы таить даже и то, что в минуты огорченья хотело бы выговорить оскорбленное сердце». [565]
Глубоко задетый этой размолвкой с семьей Вильегорских, Гоголь находился в упадке сил, когда узнал 11 мая о смерти госпожи Шереметевой. Больше всего его потрясло в этой потере то, что старая дама, которая жила с постоянной мыслью о своей скорой кончине, однажды неожиданно пришла его навестить, и не застав его дома, она засобиралась уходить, сказав его домочадцам три слова:
«Скажите Николаю Васильевичу, что я приехала с ним проститься», – поехала домой и душу отдала Богу, который отвратил перед смертью страданья. «Ее смерть, сказал Гоголь, – оставляет большой пробел в моей жизни». [566]
Удар за ударом: два существа – одна очень молодая, другая очень старая – удалились от него навсегда. Почему Бог нанес ему двойной удар? Если он преуспел в творческом плане, то явно проиграл в своей личной жизни. Господь, к которому он взывал, прося содействия в осуществлении своего труда, больше не помогал ему находить нужные слова. В своем душевном разладе он искал себе заступника перед Всевышним. И такового он видел в лице отца Матвея, который, однако, неприязненно относился ко всем видам литературного творчества. Вместо того, чтобы избавиться от этого полуфанатика, которому поэзия представлялась ловушкой бесов, Гоголь униженно старался привлечь его на свою сторону. Ему казалось, что если он сумеет убедить отца Матвея, то источники вдохновения, застывшие чудесным образом, снова хлынут на его голову.
«Никогда еще не чувствовал так бессилия своего и немощи. Так много есть, о чем сказать, а примешься за перо, – не подымается. Жду как манны орошающего освежения свыше. Видит Бог, ничего бы не хотелось сказать. Кроме того, что служит к прославлению Его святого имени. Хотелось бы живо, в живых примерах, показать темной моей братии, живущей в мире и играющей жизнью, как игрушкою, что жизнь не шутка. И все, кажется, обдумано и готово, но перо не подымается. Нужной свежести для работы нет, и (не скрою перед вами) это бывает предметом тайных страданий, чем-то вроде креста. Впрочем, может быть, все это происходит от изнуренья телесного. Силы физические мои ослабели. Я всю зиму был болен. Не уживается с нашим холодным климатом мой холоднокровный, несогревающийся темперамент. Ему нужен Юг». [567]
Его снова обуревают планы совершить путешествие: сначала в Васильевку, затем в Одессу, Грецию, возможно в Константинополь. Что касается российской части своего турне, то он надеется, что наиболее разумным будет следовать по второстепенным дорогам, останавливаясь в монастырях, и заодно получше познакомиться со страной. Филолог и этнограф Максимович согласился его сопровождать. Они выехали 13 июня 1850 года, позавтракав у Аксаковых. Гоголь заказал себе меню, написав предварительно записку:
«Мы с Максимовичем заедем к вам по дороге, то есть перед самым отъездом часу во втором, стало быть во время вашего завтрака, чтобы и самим у вас чего-нибудь перехватить: одного блюда не больше, или котлет, или, пожалуй, вареников, и запить бульонцем». [568]
После остановок в Подольске, Малоярославце, в Калуге у госпожи Смирновой, путешественники добрались 19 июня в знаменитую Оптину пустынь.
Растроганный приближением к святому месту, Гоголь слез с коляски и вместе с Максимовичем остаток пути прошел пешком. На дороге они встретили девчушку с мисочкой земляники и хотели купить у нее эти ягоды; но девочка, видя, что они люди странствующие, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, сказав, что «как можно брать с странних людей деньги?» – «Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – заметил Гоголь, умиленный этим, конечно, редким явлением. – И я не раз замечал подобное влияние таких обителей». [569]
Монастырь с его белыми стенами, с часовнями в позолоченных куполах стоял на краю леса. Вокруг простирались луга, усеянные цветами, речушка, перезвон колоколов, – все это представлялось игрушечным царством. С первых шагов у вновь прибывших складывалось впечатление, что заботы мирской жизни спадали с плеч и что время перестало течь. На некотором расстоянии от основного здания расположились затерявшиеся среди деревьев кельи старцев, мудрых из мудрых, рядом с которыми тоскующие души находили и совет, и утешение. Наиболее примечательным из всех этих исключительных личностей был старец Макарий, благородного происхождения, исключительно образованный, источающий смирение, терпение и кротость. День и ночь от небольшого лесного поселения до изгороди, украшенной иконами, словно дым, воспарялись молитвы. Посетитель, даже самый очерствевший, должен был признать, что над этим местом царило умиротворение. Как если бы силой разумения дух доминировал над материальной сущностью. От общения с некоторыми из постояльцев Гоголь испытал ощущение, что они находятся между небом и землей.