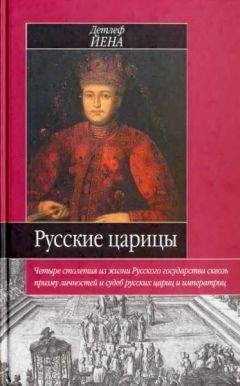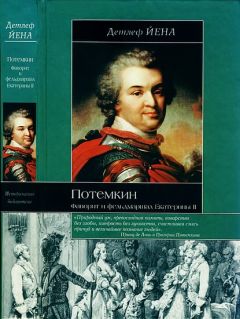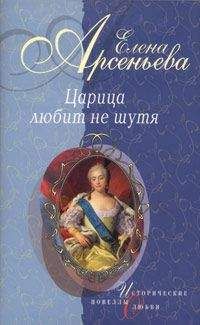Владимир КОРОТКЕВИЧ - Колосья под серпом твоим
«Положили ряд» с оршанскими известковыми копями и заложили выше Орши еще шесть барж: южным заводам нужна была известь.
Охрипший, обветренный, загорщинский пан носился между Суходолом, Могилевом и Оршей; по мокрому снегу, под дождем, ночевал в корчмах. Пропах псиной от мокрой волчьей полости, по целой неделе не бывал в бане, спал дорогой в возке.
Все одновременно. Все на этой неделе, сегодня, сейчас. Подохнем, если не сделаем. Риск? Без риска жизнь не жизнь. Этот сонный покой, эта возмутительная, как вопль в пустыне, бедность от бесхозяйственности, они убивают, гнут в дугу человеческие жизни.
В деревне Бель, самой заброшенной из его деревень, за Копысем, отсутствие промыслов и неурожаи довели людей до отчаяния. Корчма довершила дело водкой, займами, развратом. Узнав об этом, Загорский налетел туда, сунул в зубы проходимцу-корчмарю мужичий долг и выгнал его из села. Женам были даны деньги, и под эти деньги до самой пахоты мужчины должны были ломать известь на Оршанских копях.
Губернатор Александр Беклемишев вызвал было его к себе и попытался кричать, что его действия пахнут разбоем – погнал людей, избил корчмаря и сидельцев.
Не на того напал.
– Пан Александр, вот вам стоимость корчмы, а вот обманные расписки корчмаря на впятеро большую сумму. Я не требую ее от казны. И позвольте мне самому знать, что я могу и чего не могу делать в своих владениях. Спаивать народ я не позволю. Советую также вспомнить, что губернская казна до сих пор должна нашему роду за строительство школ и шлюзование Друти. Я не скажу, что мне было б приятно взыскать эти деньги в этом году, всего лишь спустя год после окончания срока…
– Успокойтесь, – смутился губернатор. – Черт с ним, с корчмарем.
– Это проходимец. Копейку в казну и рубль себе. Тихонько прополз по округе, а там – как Мамай прошел! Вы дали ему место в Довске?
– Казне нужны деньги, – сказал губернатор. – Казна – дело святое.
– И вы говорили мне о разбое, – с укором сказал Алесь. – Я не советовал бы вам держать таких людей.
– Я подумаю. – Губернатор действительно решил не спорить, потому что помнил, чем все это окончилось для Жегулина, фон Берга и еще некоторых, что спорили с Вежей и потому не просидели на должности и года. И губернатор сказал: – В бедности виновата пассивность здешних людей, а не мы. Отдали торговлю в руки староверов да евреев.
Алесь рассмеялся, но так, что губернатору стало не по себе.
– При чем здесь они? – спросил Загорский. – В этом виноваты мы с вами, господин губернатор, наша нетерпимость, наша гнилая продажность… И тех, и других гонят за веру… У нас они когда-то нашли пристанище. И мы жили с ними хорошо. Нам было диковато, что они молятся не так, что одни держат для нас отдельные кружки, а другие почему-то раз в год строят шалаши и едят там… Ну и черт с ними, каждый сходит с ума по-своему… Однако их нашли. За то, что крестятся двумя пальцами, трижды из Ветки делали пустыню, убивали, жгли живьем. За один палец снимали голову, а она у человека одна. А раскольники – хороший, трезвый, работящий народ. Память о мачехе своей – язык, обычаи – сберегли, не растеряли… Так их в благодарность, забывая слова Петра, что лишь бы подати платил, а молись как хочешь, мертвых штабелями складывали, да девчат солдатня насиловала… И других достали… Полоцких всех живьем в Двине утопили, с детьми маленькими… Опричник в рясе, пес бешеный – Грозный, палач. Сделали им землю эту чужой. Так чему удивляться?! С чужого – греби!
Когда молодой Загорский ушел, губернатор долго еще не мог прийти в себя. Черт! Манеры едва не версальские, язык мужицкий, одежда разбойничья, мысли якобинские…
Но не якобинскими были мысли Алеся. Болела душа. Всюду было одно банкротство. Поля, заросшие пыреем, потому что не было копеек на железную борону, варварская подсочка деревьев, уничтоженная отбросами ватной фабрики рыба в Путейне, березовые посадки на известняках и песчаных землях, где так нужна вода, бездумно осушенные болота – от резкого снижения водного слоя посохли окружающие леса.
Потери, потери, потери… Деньги, брошенные на ветер.
– Лучше бы вы ими печи топили, головы еловые!
Деревня голодает, живет в темноте, земля истощена. Промышленность кустарная, торговли нет. И спят, спят все, словно угоревшие, не понимая, что сон угоревшему – смерть. И сердятся, когда их будят.
Так тяни, тяни их силой из чадной хаты. Пускай кусаются – тяни!
Весна запаздывала. В начале апреля еще лежал снег, было промозгло, и бил озноб, а ночью морозило. В один из вечеров Алесь обходил конный завод. Коней надо было перевести в запасные конюшни, чтоб произвести генеральную уборку, побелку, чистку. Это собирались сделать сегодня же.
Переводить было довольно легко. Привыкшие к вольному выпасу летом, кони и за зиму не отвыкли слушаться табунного вожака и верховода, огненного жеребца Дуба. Куда он, туда и табун. Дуб вдруг задурит и погонит напрямик – и остальные за ним.
Алесь отпустил людей ужинать, а сам в последний раз осматривал новые конюшни, а потом пошел по старым, чтоб после Змитер, Логвин и другие управлялись уже без него. Он хотел помыться, побеседовать с матерью и ехать в суходольское собрание. Майка сообщила, что братья и Наталья сегодня гостят у Клейны, отец остался дома и она будет в собрании только с матерью, а возможно, и одна.
Алесь тосковал без нее. И потому торопился, хотел сегодня решительно поговорить с Михалиной и как-то рассечь мережу, в которой они так давно запутались.
Дуб был отяжелевший уже, но все еще могучий дикарь. Косил кровавым оком и пугал, задирал верхнюю губу, показывая зубы.
Алесь как раз потчевал Дуба подсоленным ржаным сухарем, когда за стеной прозвучал и резко оборвался бешеный цокот копыт.
Дуб озоровал и не хотел брать. Встревоженный Алесь оставил его и пошел было к выходу, но в этот момент в конюшню ворвался красный от ветра и волнения Павлюк Когут.
– Что? – спросил Алесь.
Павлюк хватал ртом воздух, словно бежал он, а не конь. Наконец вымолвил:
– Раубича пошли громить!..
– Кто?!
– Люди Корчака.
– Ты что, сдурел?
– Да… Да… Убивать будут.
– Да не за что его!
Павлюк не мог знать о разговоре в челнах, когда Кондрат, страдая за дядькованого брата, навел людей Корчака на имение Раубича. Не знал он и о большом плане нападения, который вынашивал в душе бывший пивощинский мужик.
А Кондрат и Андрей ничего не знали о тайном мире между Алесем и Михалиной.
Произошло же вот что. Корчаку очень нужно было оружие. И ему, как и предвидел Иван Лопата, никак не удавалось поднять большое количество людей. Слухи о близком освобождении заставляли каждого притаиться и ожидать, как мышь под веником.
Не стоило ломать шею, когда все равно крепостное право вот-вот будет отменено.
Большинство мужиков ушло от Корчака по домам, хотя и помогали – «на всякий случай, а вдруг да понадобится». С четырьмя десятками людей он отсиживался в пущах.
О нем начали говорить – нестрашный. Ему позарез нужно было оружие. Черный Война, встретив однажды на лесной стежке всю гурьбу, издевательски поехал прямо на нее, лишь положив руку на пистолет и сверля людей подозрительным взглядом. Богдана боялись: «Словно сам черт ему помогает. Не иначе – оборотень», – и уступили дорогу.
А Богдан язвительно улыбнулся, вытащил пистолет и бросил:
– На, атаман. Возьми. На бедность.
Такого Корчак вынести не мог. Этот один наводит страх на всех столько лет! И месяца не проходит, чтоб молва не принесла новость: «Напал один на полицейский пост… Застрелил… Коней отбил и раздал…»
И Корчак, помня слова Кондрата, решил: «Раубич – будущий родственник Ходанских… Не стережется… Есть оружие… Одобрение и поддержка со стороны Когутов, а значит – и озерищенцев».
На Кроера идти было не по зубам: у того все еще сидели черкесы… Большой поход начать тоже нельзя: войска всюду. А Раубич не стерегся.
Корчак и так и этак тасовал карты. Выпадало одно – идти на Раубича.
…Ничего этого не знали Алесь и Павлюк. Недоумение владело Загорским.
– Откуда знаешь?
Павлюк, видимо не подумав, ляпнул:
– Стою с Кахновой Галинкой у тына…
– Что? С Кахновой?
Павлюк залился румянцем.
– Как же это ты так?… У собственных братьев… Ты как им теперь в глаза смотреть будешь?
И тут Павлюк рассердился:
– А что?! Сами виноваты. Друг другу дорогу уступают. Она мне сказала: «Обрыдли мне они, Павёлка…». И потом – люба она мне…
И тут юмор ситуации дошел до Алеся. Загорский захохотал.
– «И восста брат на братов, а племя на племя». Ничего, не было б хуже.
Сурово бросил:
– Дальше. Стоишь ты, значит, с Кахновой Галинкой…
– Оставь… Так вот, стою я, значит… Тьфу!.. И слышу, идут люди. А навстречу им человек поднялся на гребле…