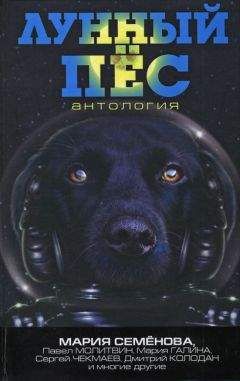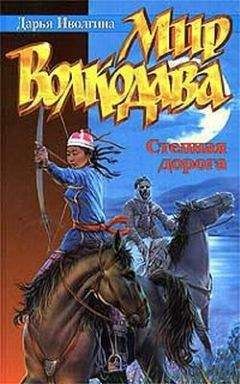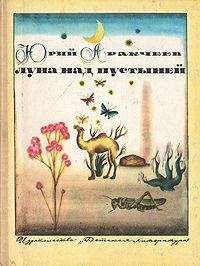Юрий Давыдов - Соломенная Сторожка (Две связки писем)
В присутствии мужа она замыкалась. Возникала какая-то гнетущая напряженность, Волховскому непонятная. Но он мог бы побиться об заклад, что уже и тогда ему крепко не нравился Эвелинг. Неужели потому лишь, что бритое лицо Эдуарда жухло в паутине тонких, ранних морщинок и потому, что волосы были прилизаны так гладко, что и блоха поскользнулась бы, а зубы крупные, лошадиные, как на карикатуре «типического британца»? Да он и не был «типическим британцем», этот Эвелинг. Не потому лишь, что был ирландцем, а потому, что типический Джон Буль… Тусси, смеясь, рассказывала, как покойная матушка – ее иронии побаивался даже Гейне – определяла «типического»: кичится своим Мильтоном, которого не знает, своей свиной отбивной, которую хорошо знает, и, наконец, Вильямом Шекспиром; но все это пустое, всерьез он принимает только отбивную… А Эвелинг? О, Эвелинг умен и общителен, беспечен и доверчив. Вместе с Муром перевел «Капитал» на английский, как Герман вместе с Фрицем – на русский. Огромный, как и у Германа, запас естественнонаучных знаний… Как Герман, как у Германа… Не тут ли и крылась причина неприязни? Краем уха слыхал Волховской, будто старик Маркс подумывал о женитьбе Тусси и Германа. Может, это и примерещилось кому-то, но, вспоминая друга, томящегося в Шлиссельбурге, Волховской нет-нет да и воображал Германа здесь, в Лондоне, вместе с Тусси. Воздушные замки и грезы, но, сдается, этим тогда и исчерпывалась неприязнь к Эвелингу.
И лишь потом, когда несчастье совершилось, когда Тусси приняла яд, узнал Волховской, как этот человек измучил Тусси своим чудовищным эгоизмом, распутством, вечными долгами, для уплаты которых не гнушался домашним воровством… А Германа не было, не было, не было… В письме почти предсмертном запрашивала Тусси известия о Германе… А Германа не было, не было, не было… До последнего часа звучал в душе ее тоскующий голос уже умершего Энгельса: «Вот мы сидим здесь, и я не уверен, что вот-вот не откроется дверь и не зайдет Герман Лопатин. Да, да, в один прекрасный день он снова зайдет в мою комнату, спокойно сядет передо мною и разразится смехом…»
– Сядем, – сказал Волховской.
– Сядем, – согласился Герман.
Белка, распушив хвост, вознеслась на вершину дерева. Тени ветвей шевелились, и казалось, что солнечные пятна на траве тоже шевелятся.
* * *Когда Волховской умолк, Лопатин минуту-другую незряче глядел на эти тени, на эти пятна, потом медленно поднялся и подошел к озеру, зачерпнул полные пригоршни и погрузил лицо в холодную воду. Волховской прикрыл глаза: не мог он, не мог смотреть, как у Германа вздрагивают плечи.
* * *После Гайд-парка нет ни малейшей охоты окунаться в перипетии того, что происходило тогда же, летом девятьсот восьмого года, здесь же, в Лондоне, на Ноттингхилл-Гэт.
Кто-то весьма остроумно заметил – история слишком важная вещь, чтобы отдавать ее в руки историков. Внесем поправку: смотря каких. Но эсеровскую конференцию в здании Вест-Лондонского этического общества уступаю другим историкам, хотя это как раз тот случай, когда требуется сугубая осмотрительность.
Однако вовсе обойтись без этой конференции нельзя. Ясности ради сообщу некоторые подробности.
Надо сказать, что дело было поставлено конспиративно. Помещение находилось в глубине сада. Делегатские мандаты подвергались суровой проверке. Никто из заседавших – а было их несколько десятков, приезжих россиян и эмигрантов-парижан, – не имел права что-либо записывать. Несмотря на секретность, среди «чистых» затесалось с полдюжины «нечистых». Об этом было известно устроителям, и все-таки, вопреки столь прискорбному обстоятельству, обсуждались все пятнадцать пунктов повестки дня.
Присутствовали и Лопатин с Волховским, оба безмандатные. Первый – почетным гостем, которого все здесь называли партизаном русской революции или Ильей Муромцем русской революции; второй, лондонский «долгожитель», – покровитель, советчик.
Герман Александрович слушал ораторов без особого интереса. Все они будто отстали от поезда, однако из опасения насмешек делали вид, что ничего особенного не приключилось. Ораторы полагали, что они подводят итоги революции пятого года; Лопатин полагал, что революция пятого года подвела итоги ораторам. Малый интерес к повестке дня не умерял его живого интереса к самим по себе делегатам – они из пловцов, что гибнут в водоворотах террора, пловцов, достойных лучшей участи. И в Питере, и сейчас, здесь, чем пристальнее всматривался Лопатин в держателей эсеровских рычагов, тем отчетливее сознавал то, что ему, правду сказать, ужасно не нравилось: принципиальное нежелание считаться с личностью, душой ее и биографией; не личность важна, а «единица», мошна, из которой можно черпать безоглядно; и честолюбие, карьерность, родственность с чиновничеством, пусть вместо мундира пиджачная пара и косоворотка. Что же до мрачной и пылкой приверженности к террорной доктрине, к террорной практике… Герман Александрович не согласился с публицистом, который утверждал, что эти люди уже охвачены атавистическим желанием «полизать крови». Будем справедливы: не охвачены; будем точны: еще не охвачены. Зато тот, кто возглавляет Боевую организацию, «лижет кровь», урчит, мерзавец, и «лижет».
Вот так, присматриваясь и размышляя, Лопатин и шепнул Волховскому:
– А это что за каннибал?
– Где? Какой?
– Вон там, справа… Экие чувственные губы.
– А! – Волховской странно хмыкнул. – Почему же «каннибал »?
– Да ведь глаза-то! Глаза профессионального убийцы. Во всяком случае, человека, скрывающего черную тайну. Я давеча видел его в садике, во время перерыва, он фуражку надел, я и подумал: такой апаш встретит в глухом углу девчонку – непременно изнасилует, а потом задушит. Или наоборот; сперва задушит, потом изнасилует.
Волховской, сжав его локоть, быстро объявил:
– А это и есть знаменитый Иван Николаевич!
Они переглянулись.
Ну конечно, Герман не утаил от старого друга своих подозрений, да и раньше ходил темный слушок об Азефе, но чтоб вот так, «по глазам» определить, этого Волховской не ожидал даже от Германа.
Лопатин был поражен: особь с явной печатью Каина пользовалась таким влиянием, такой любовью. Разумеется, гипноз покушений на Плеве, на великого князя Сергея. И все же, и все же… Но как раз потому, что он мгновенно, «по глазам» угадал Азефа, Лопатин почувствовал неуверенность, колебания. Совсем недавно, проездом через Париж, на улочке Люнен, у Бурцева, было иначе. Как хорошо, подумал Лопатин, как хорошо, что ты настоятельно рекомендовал Львовичу вбить последний гвоздь.
То не было отрицанием «физиогномики». То было нежелание отдаваться плохому впечатлению. И всегдашнее желание обнаруживать хоть что-нибудь светлое. Требовалась серия наблюдений, позволяющих схватить личность в пучок непростых конкретностей. И все же он не мог одолеть антипатии к Азефу. Не мог при встречах обменяться с ним рукопожатием.
Азеф при всей своей вялости, которую все здесь принимали за усталость (а была она следствием опустошенности, на сей раз почему-то не восполненной курортными заботами о дочурке и вдове казненного боевика), при всей своей вялости Азеф остро и тонко чувствовал опасность, исходившую от Лопатина… Старые революционеры? Азеф презрительно ронял губу: у старых революционеров только одно достоинство – то, что они старые. Однако Лопатин… Лопатин… Азеф не раз слышал: Илья Муромец русской революции. Понимал: особый авторитет, вес особый. Отнюдь не возрастной, не по причине тюремного стажа… Все это сознавая, чуя антипатию «старичины», Азеф с каждым днем все сильнее и настоятельнее испытывал желание покорить «старичину». Не страх, не боязнь разоблачения толкали к тому. Нет, не страх, ибо уже было сказано Азефу: «Останься!» Не страх – другое: покорить и распорядиться по своему усмотрению. Да только не так, как боевиками, не так, как с боевиками. И вовсе не ради вящих заслуг перед департаментом, перед Фонтанкой, перед Герасимовым. Плевал он на них. Ради себя, вот что. Для себя, вот что. Он, Азеф, подведет Илью Муромца к краю бездны, склонит над бездной, ужаснет бездной. Он, Азеф, сделает то, что не сделал Шлиссельбург, – пусть рухнет, осознав никчемность своей незапятнанности, никчемность всей своей жизни, всех своих надежд.
И в душе Азефа возникло чувство, какое возникало к боевику, приготовленному для заклания: Азеф любовался «старичиной», любовался почти искренне, если не сказать – совсем искренне, потому что сам Азеф всегда ощущал свои «любования» искренними. Было нечто коварно-женственное в том чувстве, – с каким Азеф наблюдал Лопатина с его мощной статью, походкой чуть враскачку, открытым смехом, общительностью, бодростью, особенной лаской на лице, когда тот говорил с Волховским.
Привходящие обстоятельства заставили поторопиться.
Несмотря на сугубую секретность конференции, газеты тиснули заметки о таинственных сборищах в клубе Этического общества. Детективы Скотланд-ярда околачивались на улице, лезли в сад. Лондонские друзья предупредили Волховского: коль скоро все происходит без ведома британского кабинета, коль скоро Сент-Джемский кабинет в амурах с Зимним дворцом… Словом, надо было разбегаться. И Азеф заторопился, сказал Волховскому, что ему необходимо переговорить наедине с Германом Александровичем. Волховской, подумав, отвечал, что коли так, то пусть Иван Николаевич приходит завтра же в ресторанчик «Лайонс» у Британского музея, пусть приходит к одиннадцати и ждет до половины двенадцатого. Если Герман Александрович не появится… «Хорошо, хорошо», – сказал Азеф.