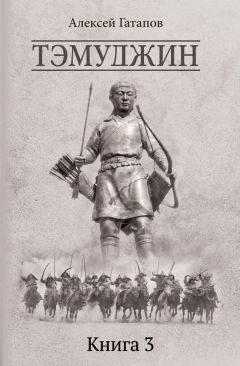Владимир Возовиков - Поле Куликово
— Мерин стоялый, дубина долгобородая, ты б лутче на загорбок кого принял аль с копьем в рать стал, нежель кадить словесами, елейными да пустыми.
Поп терпеливо уговаривал раненого набраться силы и не роптать, ибо господь может прогневаться на ропот маленького человека в столь великий и грозный час, но ратник, с усилием задирая всклоченную бороду, глядел в лицо попа безумными от боли глазами и роптал все громче:
— Игде он, твой господь? Видит ли, што творится в царстве его? Игде он был, когда брата мово татарин копьем проткнул, когда десну мне по локоть отхватил саблюкой? Я ж чеканщик, как робить ныне стану, чем малых кормить — семеро ж их у меня! Семеро, слышь ты, дармоед господень!
Однако ни страшное богохульство, ни оскорбление сана не смущали попа; поднимая раненого, он своим певучим голосом твердил о великом терпении Спасителя ради людей, правды и добра, о его заветах стойкости в жестоких испытаниях души и тела, о целительных молитвах, утишающих страдания, о провидении, которое покровительствует тому, кто стоек в беде, пролив кровь за веру Христову, за дело правое; а мужик лишь тряс головой и вскрикивал, словно не желал утешений, но поп, видно, привык и говорил он не одному, а многим раненым, тянувшимся к этой паре.
Навстречу скорбному шествию изувеченных людей от запасного полка, туда, где истекала кровью русская рать, шел слепой лирник, один, без поводыря, ощупывая путь тонкой палкой. Длинные белые волосы его беспорядочно падали на плечи и грудь, смешиваясь с бородой, в глазах светилась неподвижная синева донского неба, рот широко открыт — лирник громко пел, и песня глушила стенания раненых:
То не зори над Доном разливаются —
Дон-река течет водой кровавою,
То не ветры свищут с моря синего —
Свищут злые стрелы басурманские,
Не катунь-трава во поле катится —
Русокудрые катятся головушки,
Золочеными шеломами позванивая,
Ой ты, буря, беда неминучая,
Далеко занесла ты сизых соколов,
Во поля чужие да немилые,
Да во злую стаю черных воронов,
Во гнездо Мамаища поганого.
Ой вы, соколы, русские соколы,
Воспарите вы над громом-молоньей
Не для славы — утехи молодеческой,
Вы ударьте на стаю ненавистную
Не из гордости, не из удали —
Вы постойте за землю родимую,
Все обиды ее вы припомните,
Все слезинки ее горючие,
Все березыньки ее ли те плакучие,
Что порублены да подкошены,
Всех сестер, что в неволюшку брошены…
Песнь удалялась, и те раненые, кто мог держать меч хотя бы одной рукой, поворачивали назад, а кто и не мог держать меча, но стоял на ногах, тоже поворачивал — хоть телом подпереть строй товарищей, хоть криком усилить боевой клич русского войска. Николка заплакал от слов этой песни, от того, что убит дед Таршила, может быть, уже убиты отец и другие земляки, от того, что сам ранен и ни одного удара не нанес врагу. Он готов был броситься назад, но на кого оставить умирающего Юрка? Глянул в бледное, заострившееся лицо товарища, стараясь не замечать огромного багряного пятна, проступившего сквозь повязку, и, одолевая боль в плече, чуть не бегом направился к полевой лечебнице. «Только дотащу — бегом назад…» Песня слепого лирника слилась с гулом сражения…
Большие повозки, составленные пятигранником, образовали маленький укрепленный пункт. Одна из повозок отодвинута в сторону, там проход внутрь, к нему и направился Николка, но его остановил заросший волосами колченогий мужик в длинной темной одежде, напоминающей подрясник:
— Куды покойника-то волокешь, там и живым уж тесно!
Николка испуганно посмотрел на Юрка, пробормотал:
— Да он дышит…
— «Дышит», — вздохнул колченогий, пропуская двух раненых, поддерживающих третьего. — Будто не видно, дышит он аль нет.
Николка неверяще опустился на колени перед Юрком и совсем не узнал его лица, будто на место Юрка Сапожника подложили похожую на него большую куклу. Даже волосы стали другими — мертвая кудель.
— Что же теперь-то?
Мужик снова вздохнул:
— Туды вон его, в низинку, там другие есть… Полежат тут до могилы. Коли будет кому ее вырыть, могилу-то…
Николка исполнил, как велел колченогий страж лечебницы, с опущенной головой побрел назад, но мужик окликнул:
— Подь-ка сюды!.. Ты што ж это, парень? Тож ведь раненай, аль чужая кровь на руке?
Николка молчал, боль словно растеклась, но рука стала тяжелой, и он подумал сейчас: «Как же я с копьем-то?»
— Эге! — негромко воскликнул мужик. — Никак, стрелой ранен? Войди, войди — полечат, не то беда…
В укреплении Николку оглушили стоны, запах ладана, крови и снадобий, но теперь он сдержался, не дал волю слабости. Внутреннее пространство тележного лагеря заполняли раненые — они лежали, сидели, стояли. Лекари, среди которых было несколько женщин, перевязывали раны, поили немощных, попы пели молитвы, давали отпущения грехов, утешали тех, кто особенно страдал, помогали лекарям. Здесь оказывалась первая умелая помощь; те, кто получил ее, отправлялись в войсковой лагерь к Непрядве — одни уходили сами, других отвозили на легких бричках. Были и такие, кто, почувствовав себя лучше, возвращались в битву. Тщедушный монашек-лекарь тотчас приблизился к Николке, расстегнул и помог совлечь кожаную броню. Николка вскрикнул, как ни крепился. Монашек покачал головой:
— Ранка — тьфу, а руку разнесло, видно, ядом тя угостили.
Николка лишь проглотил болезненный комок.
— Дед Савося! — громко позвал монашек.
Подошел согбенный старик с лешачьими бровями, будто прохладой окатил Николку взглядом глубоких бесцветных глаз, осторожно ощупал плечо, проскрипел:
— Не пужайсь, яд не страшный, есть от него средство. Вот кабы сразу не выдернул, валялся б теперь в жару… Дарья! — окликнул ближнюю женщину, хлопочущую над раненым с перевязанной головой. — Дай-ка этому молодцу выпить утешь-травы. А ты смажь рану-то, штоб жар вытянуло, да заклей — вот и будет ладно.
Старый лекарь отошел к ратнику, которого только что внесли, монашек начал обрабатывать рану на плече Николки, приблизилась девушка в темном, тихо ойкнула:
— Николка! Ранили? Наши-то где, живы ли?
Николка узнал Дарью, губы его задрожали.
— Что ты, Николка, больно? Погоди, миленький, счас легше станет, — она торопливо налила в глиняную черепушку пахучей зеленоватой жидкости из небольшого жбана.
Николка всхлипнул:
— Юрка… убили… И деда твово…
Снадобье плеснуло через край, Дарья охнула, отступив, и монашек взял у нее черепушку, поднес ко рту Николки, в самое лицо прошипел:
— Ты што, дубовая колода, помолчать не мог? Пей.
Николка проглотил снадобье, не понимая, за что бранит его лекарь — ведь правду сказал. Дарья поставила жбан на землю, иссохшим голосом сказала:
— Пошла я…
— Куда это? — монашек заступил ей дорогу.
— Деда искать. Может, живой?
— Ты што? Ума лишилась? Ты знаешь, што там!
Девушка шагнула в сторону, пытаясь обойти монашка, но тот схватил за руку.
— Сродственников искать идешь? А этих болящих, кои помощи ждут, бросаешь? Пусть помирают ратники, за нас принявшие лютые язвы, штоб деду твому не скушно было в пути ко господу? Так, што ль?.. Дуреха! Убитых не воротишь, а этих мы спасти должны. Должны!
— Я там спасать буду…
— Там! Там тебя спасать придется. Девицам средь мечей не место, а тут тебе нет замены. Нет замены, слышь!..
Ближние раненые оборачивались на громкий голос монашка, и тогда Дарья, надвинув платок на самые глаза, взяла жбан и пошла на чей-то громкий стон у дальней стенки ограждения.
— Иди, сядь вон под телегу, а то приляг, тебе это важно, — монашек подтолкнул Николку, сам же, встретив нового раненого, спросил: — Что там? Крепко стоят?
— Стоят! Запасный-то еще не трогался, стал быть, бьют… И большое знамя на месте… Господи, сколько душ хрестьянских загубил, окаянный, сколь народу изувечено, а конца не видать.
Николка пробирался к выходу. Ему стало легче, и оставаться он все равно не мог. Снаружи послышались громкие крики, он выбежал, и первое, что увидел — запасный полк. Качая лес копий, полк двигался в сторону битвы, заворачивая вперед правое крыло. Николка глянул туда, где недавно стоял с земляками, и в груди оборвалось: там клубился такой же страшный омут, какой видел он на левом крыле войска, когда тащил Юрка, и через этот клокочущий омут бурно текли серые ручьи вражеской конницы, смывая светлые островки расколотого русского войска. А дальше, у Зеленой Дубравы, уже не отдельные ручьи — грозный поток Орды хлестал в широкий прорыв, растекаясь и охватывая выдвигающийся навстречу запасный полк.
— Ба-атя!.. Батяня-аа! — Николка, не чуя боли в руке, схватил оставленное кем-то копье и, не обращая внимания на крики колченогого мужика, кинулся навстречу страшному серому потоку, в котором сгинул отец со всеми односельчанами.