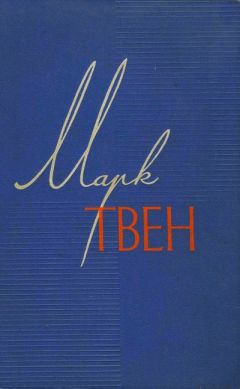Владимир Короткевич - Колосья под серпом твоим
– Мне надо быть с тобой. С этим заводом и дома ночевать не будешь.
– Глупый, ты же всегда со мной. Мне теперь легче. Я уже почти спокойна. Скоро буду совсем спокойна.
Алесь занялся делами на заводе и подготовкой к весенним работам. Он трудился до изнеможения. Официально засвидетельствовал в Могилеве и начал проводить в жизнь отмену барщины по всем своим имениям. Мать заранее согласилась со всем, что он посчитает нужным сделать.
С этого времени семь тысяч семей, которые принадлежали лично ему и матери, вместо отработки барщины должны были платить оброк.
На Ходанских и других это произвело впечатление взрыва. Часть магнатов и мелкая шляхта одобряли отмену. Но немного позже отменил барщину только Ярош Раубич, да и то, по-видимому, чтоб доказать что-то новому зогорщинскому хозяину. Остальные так косились, что пан Адам Выбицкий и наиболее доверенные из управляющих умоляли Алеся именем Христа не торопиться.
– Ссориться с вами станут, распри заведут из-за боязни бунта в своих деревнях. А те восставать будут, потому что вашим позавидуют.
– И правильно. Они не хуже.
Наивное и все еще моложавое лицо пана Адама покраснело.
– Так владельцы же объединятся против вас. Мало ли у них способов! Прицепятся к какой-нибудь чепухе, дуэль – и все… Глотку перегрызут.
– Пусть попробуют, – сухо ответил Алесь. – И вот что я вам скажу. Прошу вас не считать эту мою меру окончательной. Не забывайте об этом никогда. Я решил действовать так постепенно из-за понятной человеческой боязни – чтоб преждевременно не пресекли возможности вести дело дальше.
– Как? – спросил кто-то.
– А вот как. Целуйте Евангелие и ставьте подпись под документом. В нем условие между мной и вами, что вы клянетесь своим достоянием и честью молчать о том, что вы здесь услышите.
– Княже… – сказал кто-то с укором.
– Я знаю. И знаю, что наши мужчины умеют молчать. Но, возможно, кто-нибудь… молодой жене… И тогда произойдет преждевременный бунт мужиков в других деревнях, придут солдаты, будут стрелять и не дадут ничего довести до конца. Так что прошу расценивать Евангелие не как обиду, а как знак высшего моего доверия к вам. Потому что в ваши руки отдаю я свою жизнь и честь…
Люди поставили подписи.
– Вслед за этой временной мерой мы отменим крепостное право. Возможно, через год. И не так, как в проектах, а с землей. Постепенно наделим всех, не только крестьян, но и безземельную шляхту, раздав большую часть поместной земли. Большего мы пока сделать не можем, но и на это придет время.
У Выбицкого были на глазах слезы.
– Княже, – сказал он, – этого мы вам никогда не забудем… Не надо было Евангелия, княже.
– Ну, а молодой жене? – улыбнулся Алесь.
Все засмеялись, поняв, что молодой князь прав.
– Правда, – сказал Адам, – если что-то просочится, мы все отказываемся. И я говорю вам всем: того, кто сболтнет, я убью самолично. Кто пойдет со мной?
Люди склонили головы в знак согласия.
* * *
Алесь трудился, как никто и никогда не трудился из людей его круга. Он решил перестроить сахарные заводы – вместо деревянных построек возвести каменные. Он, наконец, сделал то, что никак не мог решиться пан Юрий, – застраховал все строения. И пускай святоши в округе вопят, что это вроде как борьба с волей господа бога.
У Озерищ заложили на стапелях восемь барок: на Киевской контрактовой ярмарке всегда большим спросом пользовался северный картофель для винокурен.
"Положили ряд" с оршанскими известковыми копями и заложили выше Орши еще шесть барж: южным заводам нужна была известь.
Охрипший, обветренный, загорщинский пан носился между Суходолом, Могилевом и Оршей; по мокрому снегу, под дождем, ночевал в корчмах. Пропах псиной от мокрой волчьей полости, по целой неделе не бывал в бане, спал дорогой в возке.
Все одновременно. Все на этой неделе, сегодня, сейчас. Подохнем, если не сделаем. Риск? Без риска жизнь не жизнь. Этот сонный покой, эта возмутительная, как вопль в пустыне, бедность от бесхозяйственности, они убивают, гнут в дугу человеческие жизни.
В деревне Бель, самой заброшенной из его деревень, за Копысем, отсутствие промыслов и неурожаи довели людей до отчаяния. Корчма довершила дело водкой, займами, развратом. Узнав об этом, Загорский налетел туда, сунул в зубы проходимцу-корчмарю мужичий долг и выгнал его из села. Женам были даны деньги, и под эти деньги до самой пахоты мужчины должны были ломать известь на Оршанских копях.
Губернатор Александр Беклемишев вызвал было его к себе и попытался кричать, что его действия пахнут разбоем – погнал людей, избил корчмаря и сидельцев.
Не на того напал.
– Пан Александр, вот вам стоимость корчмы, а вот обманные расписки корчмаря на впятеро большую сумму. Я не требую ее от казны. И позвольте мне самому знать, что я могу и чего не могу делать в своих владениях. Спаивать народ я не позволю. Советую также вспомнить, что губернская казна до сих пор должна нашему роду за строительство школ и шлюзование Друти. Я не скажу, что мне было б приятно взыскать эти деньги в этом году, всего лишь спустя год после окончания срока…
– Успокойтесь, – смутился губернатор. – Черт с ним, с корчмарем.
– Это проходимец. Копейку в казну и рубль себе. Тихонько прополз по округе, а там – как Мамай прошел! Вы дали ему место в Довске?
– Казне нужны деньги, – сказал губернатор. – Казна – дело святое.
– И вы говорили мне о разбое, – с укором сказал Алесь. – Я не советовал бы вам держать таких людей.
– Я подумаю. – Губернатор действительно решил не спорить, потому что помнил, чем все это окончилось для Жегулина, фон Берга и еще некоторых, что спорили с Вежей и потому не просидели на должности и года. И губернатор сказал: – В бедности виновата пассивность здешних людей, а не мы. Отдали торговлю в руки староверов да евреев.
Алесь рассмеялся, но так, что губернатору стало не по себе.
– При чем здесь они? – спросил Загорский. – В этом виноваты мы с вами, господин губернатор, наша нетерпимость, наша гнилая продажность… И тех, и других гонят за веру… У нас они когда-то нашли пристанище. И мы жили с ними хорошо. Нам было диковато, что они молятся не так, что одни держат для нас отдельные кружки, а другие почему-то раз в год строят шалаши и едят там… Ну и черт с ними, каждый сходит с ума по-своему… Однако их нашли. За то, что крестятся двумя пальцами, трижды из Ветки делали пустыню, убивали, жгли живьем. За один палец снимали голову, а она у человека одна. А раскольники – хороший, трезвый, работящий народ. Память о мачехе своей – язык, обычаи – сберегли, не растеряли… Так их в благодарность, забывая слова Петра, что лишь бы подати платил, а молись как хочешь, мертвых штабелями складывали, да девчат солдатня насиловала… И других достали… Полоцких всех живьем в Двине утопили, с детьми маленькими… Опричник в рясе, пес бешеный – Грозный, палач. Сделали им землю эту чужой. Так чему удивляться?! С чужого – греби!
Когда молодой Загорский ушел, губернатор долго еще не мог прийти в себя. Черт! Манеры едва не версальские, язык мужицкий, одежда разбойничья, мысли якобинские…
Но не якобинскими были мысли Алеся. Болела душа. Всюду было одно банкротство. Поля, заросшие пыреем, потому что не было копеек на железную борону, варварская подсочка деревьев, уничтоженная отбросами ватной фабрики рыба в Путейне, березовые посадки на известняках и песчаных землях, где так нужна вода, бездумно осушенные болота – от резкого снижения водного слоя посохли окружающие леса.
Потери, потери, потери… Деньги, брошенные на ветер.
– Лучше бы вы ими печи топили, головы еловые!
Деревня голодает, живет в темноте, земля истощена. Промышленность кустарная, торговли нет. И спят, спят все, словно угоревшие, не понимая, что сон угоревшему – смерть. И сердятся, когда их будят.
Так тяни, тяни их силой из чадной хаты. Пускай кусаются – тяни!
Весна запаздывала. В начале апреля еще лежал снег, было промозгло, и бил озноб, а ночью морозило. В один из вечеров Алесь обходил конный завод. Коней надо было перевести в запасные конюшни, чтоб произвести генеральную уборку, побелку, чистку. Это собирались сделать сегодня же.
Переводить было довольно легко. Привыкшие к вольному выпасу летом, кони и за зиму не отвыкли слушаться табунного вожака и верховода, огненного жеребца Дуба. Куда он, туда и табун.Дуб вдруг задурит и погонит напрямик – и остальные за ним.
Алесь отпустил людей ужинать, а сам в последний раз осматривал новые конюшни, а потом пошел по старым, чтоб после Змитер, Логвин и другие управлялись уже без него. Он хотел помыться, побеседовать с матерью и ехать в суходольское собрание. Майка сообщила, что братья и Наталья сегодня гостят у Клейны, отец остался дома и она будет в собрании только с матерью, а возможно, и одна.