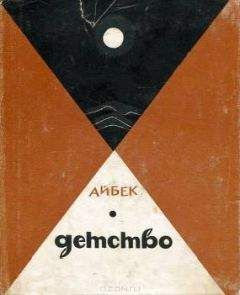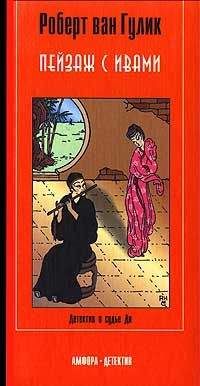Алексей Чапыгин - Разин Степан
С огородов, сквозь тын, по всей Стрелецкой слободе несло запахом печеного хлеба, так как простолюдинам летом «пожара для опас» не давали топить печи в домах, они пекли хлеб на огородах и пустырях.
Старик примолк, настраивая домру, столь же старую, как и сам он, а за его спиной по-за тын кто-то, сидя в углублении земли перед печью, говорил громко и жалуясь:
— С тяжбой наехала родненька, кум… в Кремль пошли на соборы глянуть. Дошли мы до церкви мученика Христофора, я поотстал, а кум орет во всю Ивановску площедь: «Что-то, куманек, ваши московские иконники замест угодничья лика пса на образ исписали?..»
— Вот дурак-от! Христофор завсе с песьим ликом пишется.
— Я ему машу рукой: молчи-де! Ой, и натерпелся… Гляди, уволокли бы в Патриарший разряд…
— И отколе экое чудо? Святых не разумеет.
Старик, настроив домру, снова запел ту же песню. С казни Разина, от лобного места, разбродилась толпа горожан, густела около игреца, слушала. В толпе стоял широкоплечий высокий юноша. Он и раньше стоял, а теперь придвинулся ближе. Лицом худощав, над губой верхней начинались усы, из-под белой шляпы, расшитой на полях узорами, лезли на лоб темны кудри. Малиновый скорлатный кафтан распахнут; опершись на батог, молча слушал игру старика.
Толпа зашевелилась и раздалась. К канаве вплотную пролез человек, с виду купец, широкоплечий, приземистый, с отвислым животом, в синей долгополой сибирке аглицкого сукна. За купцом протолкались, встали около него приказчики в серых фартуках и валеных шляпах, похожих на колпаки. Над Москвой все шире и шире загудел из Кремля колокольный звон. Вслед кремлевскому звону недалеко с полянки зазвонила церковь Григория… В торжественный и плавный звон настойчиво вплелся заунывный похоронный… Купец, как и многие люди, держа снятую с отогнутыми полями шляпу в руке, крестясь, заговорил:
— Дивлюсь я, народ православной! Вот уж кой день писец покойницкой Трошка звонит неладно! Чуете? во!.. во!..
— Как не чуять, торговой человек? Звонит, быдто архиерея хоронят.
— Еще что! Как седни вора Стеньку везли на лобное место из тюрьмы с Варварского крестца, звонил же все так. А звоны в тое время ни гукнули… один он…
— Да… баловать таким делом не по уставу.
— И чого этта протопоп ему спущает?
— Кой день, как государев-царев духовник уехал к Троице!
— К Сергию?
— Куды еще? К Троице.
— Ну, и вольготно звонцу шалить колоколами.
— Нет, православные! Тут дело патриарше, не шалость пустая.
— Патриарший разряд сыщет.
— Коли доведут — сыщет!
— Сыскать про Трошку надо. А коли же сыскивать, православные, так чуйте: старик тож неладное играет, да еще в повечерие: грех велик!
— На старика поклеп! Наигрывает старой сколь жалостно, одно что в вечерю…
— А чуете ли, кого поминает?
— Волгу!
— Девку еще!
— А сокола сизого? Да сдается мне, замест сокола поминает вора Стеньку, казнили коего по государеву указу, четвертовали. Чуйте, православные! Его поминает.
— Лжешь на старца, пузатой!
— Зато не нищий: и пузат, да богат!
— Всяк про себя деньги копит. Иной нищий богаче купца.
— Чуйте, православные: «властям не кланялся», «вороги насядут, потеряешь буйну голову!».
— Оно впрямь, схоже!
— И Волгу-реку со Царицыном, Свияжском, камнигоры самарские — про то нынче сказывать не можно: там бунты идут. Играть же указом воспрещено — чуйте, православные!
— Ну, чуем! Что из того?
— То! А може, не то?
— То ли, не то, а я, православные, делаю почин. С тем шел сюда, чтоб старого безбожника, кой в повечерие бунтовские песни играет, в Разбойной сволокчи. Эй, парни, бери!..
— Пров Микитич, подмочь мы можем, да только…
— Чого только?
— Подмогем до крылец в Кремль, а в Разбойной не пойдем — с дьяками суди ты!
— Волоките! Сам все улажу. Ну-ка, мохната шапка зимня, с нами, и музыку бери!
Купец, помогая приказчикам, выволок домрачея из канавы на дорогу.
— Да чего вы, божьи люди? Стар и убог, чай, сами видите? Играю нищеты деля: може, кто алтын кинет?
— Там тебе гробных рублей дадут.[358] Волоки, парни!
— Идем, дедко!
— Эх, пошто трогаете старца!
— Пропущай!
Юноша кинул батог, двинул на голове шляпу. Толпа не расступалась, старика тащили медленно, улица была плотно забита людьми.
— Чого мешаете, православные?
— Волоки, нам што!
— Не дело это… старого.
Парень из толпы тронул юношу за рукав:
— Вася! Гостя нашего… старца…
— Пожди, Куземка! Дай им взяться ладом. Где робята?
— Тут, с народом.
— Кличь!
И, раздвинув толпу, засучил к локтям сборчатые рукава. Толпа отхлынула. Приказчики, оглянувшись, выпустили из рук старика. Купец закричал:
— Вы, парни, чого? А?!
— Не видишь, что ли, Пров Микитич?
— Чого?
— Люди хлынули прочь, а первой кулашной боец в дело вязнет.
— Какой еще? Волоки!
— Васька Ирихин — слышь, какой!
— Эй, православные, подмогите парням.
— У нас ребра и так щитаны.
Люди все больше редели, кто-то сказал:
— Тащи, пузатой, коли затеял!
— Нагляделся, вишь, казни, так на всякого рад скочить…
— Мы Разбойной обходим.
— Черта с таким народом послужишь государю!
— Не государю, а твоей чести.
— Тьфу, сволочь!
Купец, ругаясь, отступился и спешно, не то от зла или боясь толпы, ушел.
Приказчики задержались; сняв шапки, поклонились старику:
— Прости нас, дедушко!
— Велел, а дело наше подневольное!
— Ништо взять у старого…
— Шальной он у нас! Вишь, в гости норовит пролезть.
— Такому не быть гостем! Знаем его лари — мелковат торгом.
— У черта ему гостем быть!
— Старается — крамолу ищет…
Толпа, переговариваясь, разошлась.
Юноша подвинулся к старику.
— Пойдем-ка, дед, к матке: чай, по нас соскучала!
— Поволокли… а чудно!..
— Сразу видал, что этот к тебе неспроста лезет. Все ждал, когда возьмет да городские подмогать зачнут. А я мекал — гикну ребят… Только скоро тебя спустили… Люблю бой!
Звон колокольный заливал воздух Москвы, улицы и закоулки. Над низкими домами гудело медью, и в медный, веселый гуд, не смолкая, упрямо вливался заунывный похоронный звон.
— Ты куда, дед?
— Да иду, робятко, надо мне задтить на Архангельске подворье к монашкам — земляки есть, а кои прибыли из Соловков: Азарий-келарь да Левонтий-поп…
— Пошто они тебе?
— Вишь ты, Васильюшко. Пожил я у вас — пришел от имени батюшки. Сказнили его нынь, а теперь идти мне…
— Это вора-то Стеньку?
— Ой, робятко, молчи! Не вор он… не говори так… В тепле у вас, в доброй жире пожил, и слава богу. Посужу с монашками: може, еще потрудятся во славу атамана Соловки-то! Потрудятся ужо…
— Идем к нам! Снова, гляди, уловят… По Москве нынче много таких черевистых ходит… имают людей.
— Не уловят, даст бог! Решетки в городу не замкнут скоро — светло; а я часик, два, три поброжу…
— Тебя, ежели, где искать?
— Не ищи, Васильюшко! Сам прибреду.
5
Ириньица лежала, закинув исхудалые руки за голову. Василий вошел, сел на лавку; не раздеваясь, кинул рядом с собой расшитую шляпу. Свечи горели в одном трехсвещнике: две из них догорали, одна, высокая, ярко потрескивала, оплывая. Василий встал, взял две свечи из столешного ящика и зажег, вынув огарки. Делал он все очень тихо, бесшумно. Ириньица прошептала, не открывая глаз:
— Где ж летал, мой голубь-голубой?
— Эх, мама! Не чаял я, что услышишь… Мекал — спишь. Был и видал — ой, что!
— Скажи, сынок… чую…
— А вот! Тут, не дально место, на Козьем, вора Стеньку Разина на куски секли… Перво, палач ему правую руку ссек, потом левую ногу, а вывели заедино с ним, вором, его брата Фролку, да, вишь, не казнили… пристрастия для привели скованна. Фролка от тое казни братней в ужастие пришел и слезно закричал: «Знаю-де я слово государево!» Он же, вор Стенька, весь истерзанный, да из отруба руки, ноги кровь бьет вожжой, рыкнул на Фролку что есть силы — всему народу в слух пало: «Молчи, собака! Шлю тя к матери и со словом государевым заедино…» Тогда палач его по стриженой голове тяпнул и нараз ссек, а потом… Ты что, мама?!
Ириньица, дрожа, села. Полуседые волосы лезли ей на глаза. Сбороздила волосы прочь иссохшей рукой и крикнула так, как не ожидал сын, громко:
— Дитятко! Ой, не надо!!
— Чого не надо, мама?
Ириньица упала на постелю и тихо, как первый раз говорила, сказала:
— Ой, молиться надо мне, и тебе, голубь, молиться тоже. Отец он твой был — Степан Тимофеевич!
— Отец? А я почем про то мог знать? Вор да вор — отец? Ай-яй, где его пришлось повидать! Отец!..
— Истинно отец он твой, а что не сказала — моя вина… Без закону ты им со мной прижит… Для страху не говорила — будет-де меня корить и не любить.
— Еще и корить! Так вон он кто — мой отец?.. Не занапрасну тогда Лазунка, наш гость, сказал: «Будь в отца!» — и учил стреле и на саблях рубить учил…