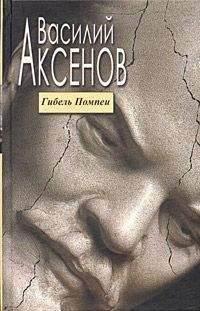Аннелизе Ихенхойзер - Спасенное сокровище
Шел 1930 год. Ранним апрельским утром горняки потоком устремлялись в ворота рудника, одни на велосипедах, другие пешком. Штейгер Шиле бегал по двору, не поднимая глаз от земли, как всегда хмурый и злой. Он яростно отбросил ногой пустую спичечную коробку и хотел уже идти в штейгерскую, как вдруг остановился на полпути.
Из раздевалки доносился чей-то спокойный, уверенный голос. «Стоп», — подумал Шиле и крадучись пошел назад.
Но сквозь маленькие, запыленные, тусклые стекла нелегко было что-нибудь рассмотреть. К тому же прямо перед окном висела пара ботинок. Шиле вытянул шею влево, вправо, немного вверх, еще чуть дальше влево, и вот наконец ему удалось заглянуть внутрь. Горняки уже натянули свои рваные брюки и обтрепанные куртки, прикрепили лампы к каскам и приготовились к спуску. Они столпились вокруг одного из своих товарищей, который, стоя на скамье, что-то говорил. Как ни вертелся штейгер Шиле, он не мог разглядеть его лица, да и слов нельзя было разобрать. Шиле вплотную прижался носом к стеклу. Фигура, жесты, спокойный голос шахтера показались ему знакомыми. И вдруг оратор на секунду повернул голову. Наконец-то! Слава богу! Шиле с быстротой молнии помчался к управляющему Паппке.
— Господин Паппке, — крикнул он задыхаясь, — в раздевалке Брозовский агитирует против администрации! Я случайно шел мимо и услышал. Представьте себе, он говорит, что под эту лавочку надо бы заложить хорошую бомбу, чтобы все взлетело на воздух и первым — генеральный директор.
— Что? Не может быть! Вы сами все это слышали?
— Да, конечно. То есть почти все, — солгал Шиле, — почти каждое слово.
— Да ведь это подстрекательство к бунту! — удовлетворенно сказал Паппке. — Вы правильно поступили, — похвалил он Шиле. — Наконец-то мы разделаемся с этим красным.
Когда в следующую субботу Отто Брозовский получал зарплату, в конверте с деньгами он обнаружил извещение об увольнении.
Протест горняков не помог. Медные короли не могли держать на руднике человека, который так бесстрашно боролся за интересы рабочего класса и никогда не склонял головы; они готовились к наступлению.
Куется оружие забастовки
И вот 24 мая 1930 года горняки, вернувшись со смены, увидели на здании правления белый плакат. Горняки, еще не привыкшие к свету, щурились от яркого майского солнца. Правильно ли они прочитали? Может быть, их обманывают глаза?
Быть может, это всего лишь страшный сон и на плакате написано что-нибудь другое?
Но нет, столько глаз не могло ошибиться, и чей-то голос, глухой и прерывистый, как стук руды о почву забоя, высказал вслух то, чему не хотелось верить:
— Ну что, прочли? Снижение зарплаты, товарищи! С понедельника зарплата снижается! Видно, господа в Эйслебене находят, что нам слишком много платят… Слишком много! Нищенские, жалкие гроши! Кровопийцы!
Горечь и отчаяние, ненависть и страх перед нищетой звучали в проклятиях горняков.
С быстротой молнии распространялась новость от одного поселка к другому.
Ссутулившись, входил горняк в дом и, устало опустившись на стул, говорил:
— Ты уже слышала, мать? Придется опять подтянуть ремень потуже.
— Что ж, вы и это стерпите? — сердито отвечала жена. — А мне что прикажешь делать? Топиться вместе с детьми? Или милостыню просить?
В винном погребке Гербштедта стоял несмолкаемый шум. Долговязый Карл Тиле говорил с издевкой:
— Ну почему вы не хотите быть благоразумными? Для медных королей наступили плохие времена! Вы же сами это только что прочли, в объявлении так и написано, черным по белому. — Он откинулся на спинку стула, сложил руки на животе и с притворным благоговением закатил глаза. — «Рабочие и служащие должны пойти на жертву…» — Карл изменил голос и заговорил умильно и слащаво — точь-в-точь горный советник: — «Рабочие и служащие должны пойти на жертву и отказаться от части своей зарплаты». — Он стукнул кулаком по столу так, что зазвенели стаканы. — Вы поняли? Мы должны идти на жертвы ради медных королей! Мы!
— Живодеры!
— Они угрожают нам голодом: «Тот, кто не согласен, может забирать документы и уходить».
— Все в их руках, — вздохнув, сказал старый слесарь Нойдорф. — Так оно было, так уж и будет.
— Аминь, — насмешливо заключил Карл Тиле.
— А забастовки тысяча девятьсот девятого и двадцать первого года? — раздался чей-то задорный, звонкий голос.
Из-за столика в углу, где каждый вечер чинно восседали со своими супругами аптекарь, мясник и булочник, на горняков опасливо поглядывала фрау Рункель. На голове у нее была кокетливая шляпка с украшением, напоминавшим кисточку для бритья. Фрау Рункель размышляла.
— Послушай, Гуго, — прошептала она наконец на ухо мужу, — если начнется забастовка, они уже не будут покупать у нас булки?
— Булки? — прикрикнул на нее муж. — Дура! Им не на что будет купить кусок хлеба. Опять начнут забирать всё в долг, и, кто еще знает, чем это для нас кончится…
Рано утром по ухабистой дороге, ведущей к руднику «Вицтум», мчался мотоцикл. Казалось, он мчится один, без пассажира — так низко склонился над рулем Отто Брозовский.
Из будки вахтера высунулся огромный нос. В ворчливом голосе Готлиба-Носача звучало удивление:
— Брозовский? Куда это ты?
— Не видишь, что ли, куда?
— Я не имею права пускать посторонних на рудник!
— Но, Готлиб, ведь это же я! Я здесь уже тридцать лет, — пытался уговорить его Брозовский.
— Ну-у, — протянул Готлиб с нескрываемым злорадством. — Теперь это, слава богу, кончилось. А если хочешь знать, так тебя-то мне уж никак пускать не велено. — От него, как всегда, разило водкой. Он тупо поморгал своими красными глазками и, понизив голос, добавил: — Специальное распоряжение администрации.
«Так, так, — подумал Отто Брозовский, — специальное распоряжение».
Он заглянул во двор.
На здании правления белел плакат.
С верхней площадки доносился звон колокола. Доверху нагруженные вагонетки с грохотом катились от подъемной клети к сортировке. Непрерывно вращаясь, жужжали колеса подъемника.
«А что, если чья-нибудь рука остановит колеса? — Брозовский прищурил глаза и улыбнулся. — Берегитесь, господа! Ваше специальное распоряжение вам не поможет!»
Он нажал на стартер и дал полный газ — скорее в Эйслебен! За Аугсдорфом он еще издали заметил мужчину, тот помахал ему. Подъехав ближе, Брозовский узнал руководителя партийной ячейки рудника «Вольф» и затормозил.
— Куда ты, Отто?
— В Эйслебен.
— Я тоже.
— Садись!
Распахнув дверь районного комитета, они в первую минуту ничего не могли разобрать — все тонуло в табачном дыму, и голоса сливались в нестройный гул. Люди сидели на стульях, столах и подоконниках. Какой-то пожилой горняк пытался говорить по телефону. Стоявшее рядом с телефоном блюдце было до краев наполнено пеплом и окурками.
— Привет, Отто! Какими судьбами?
— Ну, Отто, как там у вас?
— Франц рассказывает, что на руднике «Клотильда» настроение что надо.
— У нас тоже!
— Борьба будет тяжелой.
— Чаша терпения переполнена, мы готовы драться до последней капли крови.
Вот какие разговоры шли в прокуренной комнате.
Когда собрались представители всех рудников и всех заводов Мансфельда, началось совещание. А когда коммунисты разошлись — каждый в свой поселок, — они знали: рабочий класс всей Германии следит за Мансфельдом. Начав забастовку, они подадут пример остальным. Мансфельд — форпост борьбы. От него сейчас многое зависит.
Отто Брозовский вернулся в Гербштедт под вечер и сразу пошел в погребок у ратуши. Там было полно народу: люди с волнением обсуждали последние события. Отто подсел за один из столиков. Старый усатый Энгельбрехт рассказывал:
— Жена берет карандаш, бумагу и говорит: «Вот смотри, старик, сейчас я тебе все подсчитаю». — Энгельбрехт вытащил картонный кружок из-под пивной кружки и послюнявил карандаш. — «Сейчас, — говорит она мне, — ты приносишь домой сто пять марок в месяц». — Он написал на кружке жирную единицу, потом ноль и пятерку. — Просто гроши!
— А господа из Эйслебена считают, что и это много.
— Тише, — прикрикнул какой-то молодой парень. — Ну, так что же тебе сказала жена?
Энгельбрехт неторопливо подчеркнул единицу, ноль и пятерку.
— Сто пять марок! «А теперь, говорит, вычти отсюда пятнадцать процентов. А что останется, отнеси в Эйслебен господину директору. „Вот, — скажи, — господин директор, поживите-ка сами на девяносто марок“».
— А старуха-то твоя права!
— Пусть хозяева сами идут на жертвы!
Голоса звучали все громче:
— Правильно! Пусть они хоть раз в рудник спустятся! Да погнут спину в забое!
— Еще чего! — рассмеялся Рихард Кюммель. — Они небось думают, что руда сама в руки идет.