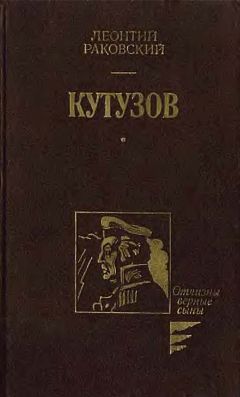Леонтий Раковский - Изумленный капитан
Софья начала торопливо одеваться.
Было еще рано – около полудня.
Наверху у капитанши стояла тишина – очевидно, и Коленька и его мамаша еще спали.
Софья пошла на кухню умыться и первым делом глянула в окно: из кухни была видна часть луга перед Адмиралтейством.
Но из-за шалашей и ларей Морского рынка, возле которых уже толпился народ, трудно было разглядеть, что делается у Адмиралтейства.
Толстощекая капитанская кухарка точно угадала софьино беспокойство. Утирая фартуком полные губы, она невзначай уронила:
– Сегодня морская гвардия в поход едет. Наш Платон не вытерпел – побежал провожать.
Софья, боясь, чтобы не проснулась капитанша и не задержала ее, наскоро умылась и вышла из дому.
На растоптанном, грязном Морском рынке было много народа. Люди ходили между ларями и шалашами взад и вперед.
Тут с большими глиняными кувшинами стояли белобрысые торговки молока.
Разносчик сбитеню, здоровенный мужик, кричал во все горло:
– Сбитень горяч! Кипит горяч! Вот сбитень! Вот горячий, пьет приказный, пьет подьячий!..
Какой-то адмиралтейский служитель, распялив фризовое портище, разглядывал его на свет, видимо, собираясь покупать.
Краснощекий молодой парень, опершись о шалаш, примеривал тупоносые солдатские башмаки. Продавец их, плутоватого вида человек с серебряной серьгой в ухе, уговаривал:
– Да ты не бойся, потяни как следует – взойдет!
В стороне ругались, плюя друг перед другом, две торговки из лоскутного ряда. Кучка адмиралтейских кузнецов со смехом глядела на эту сцену, подзадоривая:
– Не поддавайся, рыжая, засупонивай!
Софья протолкалась сквозь народ и сразу же увидела длинную вереницу телег. Они тянулись к большой перспективной дороге. Последние подводы стояли у избы с засохшей, осыпающейся сосновой веткой под тесовой крышей – у адмиралтейского кружала.
На некоторых подводах лежало парусное полотно, бичева, канаты. Другие – были порожние.
Возле подвод толпились темнозеленые мундиры морской гвардии.
У Софьи забилось сердце.
Она стала внимательно разглядывать моряков, надеясь найти среди них вчерашнего мичмана.
Но его нигде не было видно.
Софья сразу нашла только его востроглазого и востроносого товарища, с которым встретилась тогда в Морской слободе. Востроглазый мичман тростью выгонял из кружала загулявших подводчиков.
– Ехать надо, а они бражничать вздумали! – кричал он, подгоняя тростью валившихся с крыльца мужиков.
Софья решила, что ее вчерашний мичман где либо в голове колонны.
Она стала уже пробираться вперед, когда сзади послышалось:
– Глядите, наш Саша поспевает!
– Он долговязый – нагонит!
Софья остановилась, оглядываясь.
От мазанковых домиков Морской академии быстро шел к подводам тот высокий мичман, которого она хотела видеть.
– И у нашего философа нашлась зазнобушка, – бросил кто то.
– У него зазноба известная – книги. Небось, не в девичьей светелке, а в фарварсоновой каморке засиделся! – издевательски посмеиваясь, сказал Масальский, спрыгивая с крыльца. – Глядите, ей-же-ей, книги в платке несет!
– С кем это, Саша, так долго прощался?
– Ай да, философ! – подтрунивали кругом, когда высокий мичман подошел к телегам.
Мичман смущенно улыбался, сдвигая треуголку со лба на затылок.
– Ты за чем это, Сашенька, ходил? – спросил у него коренастый мичман, лежавший, развалясь, в последней телеге. – Пироги, что ли, на дорогу принес? – кивнул он на сверток.
– Книги взял, – ответил мичман.
Все рассмеялись.
– Я ж так и говорил: Саша у Фарварсона над книгами слезу проливает! – ликовал Масальский.
– Такая дорога – одуреть с тоски можно! – оправдывался мичман.
– Неужто, Сашенька, тебе за восемь годов книги еще не осточертели? – спросил у мичмана какой-то обрюзгший пожилой гардемарин.
– Поехали! Поехали! – раздалось с передних подвод. Темнозеленые мундиры зашевелились.
В суете прощанья уезжающих моряков с остающимися Софья на секунду потеряла Возницына из виду. Где-то впереди запели:
Прощай, Питербурх,
Пришли вести вдруг
Счастия желаем
И видеть его чаем.
Вся колонна поддержала:
В галерной флот
Сказан поход,
Мы станем прощаться,
С друзьями расставаться…
Наконец Софья снова увидела его – Возницын целовался с каким-то молодым, совсем мальчиком, гардемарином.
– До свиданья, Савка!
Подводы тронулись.
Софья не спускала глаз с Возницына.
Он сидел, полуоборотясь, и глядел назад, туда, где прожил восемь лет.
И тут востроглазый князь Масальский, ехавший в передней телеге, увидел Софью. Он закричал Возницыну, указывая на Софью:
– Сашка, гляди, кто нас провожает! Цыганочка!
И замахал Софье треуголкой.
Кровь прилила к софьину лицу.
Софья замахала в ответ рукой.
На мгновение ее глаза встретились с глазами Возницына. Потом телегу разом скрыли проклятые возы с сеном и дровами, стоявшие на Морском рынке.
Софья выбежала из-за них, но пока бежала по непролазной рыночной грязи, телег уже не было видно.
Издалека только донесся обрывок песни:
Авось, возвратимся,
С Питербурхом простимся.
– Сас проскино?! Сас проскино?! [10] – с сожалением сказал сзади чей-то женский голос.
Софья оглянулась: возле нее стояла красивая, черноглазая гречанка.
– Уехали наши соколики, – сказала гречанка, обращаясь к Софье.
Софье почему-то стало стыдно – точно ее поймали с поличным. Потупив голову, она быстро пошла домой.
– Сашенька, – повторяла она про себя, – Саша!
VIII
Мухи ползали по босым ногам, по заросшему рыжим волосом лицу, нахально лезли в глаза, в уголки губ.
Тощий еврей дергал во сне головой, сучил длинными, грязными ногами в измазанных парусиновых штанах, но спал.
К корчме кто-то подъехал.
В дверь застучали.
Тощий еврей не слышал стука, продолжая храпеть.
– Лейзер, Лейзер! Стучат! – сердито крикнул из-за дощатой перегородки заспанный женский голос.
Лейзер, живший из милости у богатого родственника, откупщика Боруха Лейбова, сел, почесываясь; секунду он ничего не понимал спросонья. Потом сорвался с лавки и, закричав: «зараз», загрохотал у печки медной кружкой, торопливо поливая пальцы рук. Затем кинулся в сени.
Застучал засов. Дверь распахнулась. В сени вошел с кнутом в руке пожилой еврей. Плечи его балахона были все в пыли.
Приезжий поздоровался с Лейзером и, чуть стряхнув пыль, вошел в хату.
Лейзер, шлепая босыми ногами, забежал вперед и поспешно убрал с лавки, на которой спал, свою постель – какую-то попону и старый парусиновый сюртук, вместо подушки лежавший в изголовье на двух березовых поленах.
Приезжий сел у стола, а Лейзер надел сюртук, сунул ноги в стоптанные туфли и вышел из хаты.
Солнце только что взошло. Село Зверовичи начинало пробуждаться. На улице мычали коровы – пастух собирал стадо. Скрипел колодезный журавль.
На лопухах и крапиве у забора еще блестели капельки росы.
Лейзер постоял у воза, нагруженного глиняной посудой, и, поплевывая на пальцы, вернулся в хату.
Приезжий, обернувшись к стене, молился, покачиваясь.
Хозяин, ушастый и немногословный реб Борух, в шелковом арбе-канфесе [11] поверх рубашки и в бархатной ермолке, сосредоточенно мыл под жестяным рукомойником пальцы, неспеша подставляя под струю то одну, то другую руку.
А за дощатой перегородкой тяжело ворочалась на своих необъятных перинах проснувшаяся хозяйка.
Лейзер достал с полицы мешочек с тфилин [12] и стал тоже молиться. Когда прочитали «брохас» (утренняя молитва), Лейзер, захватив ведра, побежал за водой: тучная, коротконогая Сося-Бася, жена Боруха, стряпавшая у печки, уже несколько минут тому назад со звоном поставила на лавку пустые ведра, давая этим знать, что нет воды.
Лейзер принес воды, наколол дров и только хотел присесть отдохнуть и послушать, о чем говорит реб Борух с приезжим, как из каморки раздался визгливый окрик раздражительной хозяйки:
– Варт! Варт! [13]
И затем:
– Лейзер, возьми ты ее от моей головы!