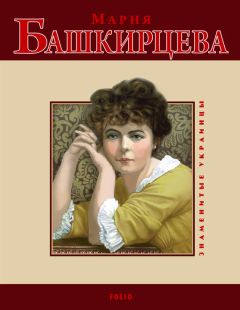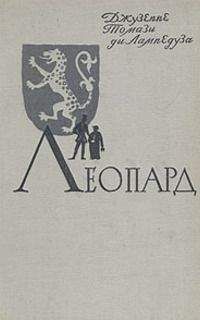Джузеппе Томази ди Лампедуза - Гепард
Все вышли из карет: князь, ободренный скорым прибытием в дорогую его сердцу Доннафугату, кня-
ОТСУТСТВУЕТ ТЕКСТ (стр.72?)
Совершенно разбитая мадемуазель Домбрей, французская гувернантка, вспоминая о годах, проведенных в Алжире, в семье маршала Бужо, все время повторяла: «Mon Dieu, mon Dieu, c'est pire qu'en Afrique!»[23] — и вытирала свой вздернутый носик Для падре Пирроне, которого чтение молитвенника сморило в начале пути, время прошло быстро, и он теперь выглядел бодрее всех остальных. Служанка и два лакея, привыкшие к городской жизни, с брезгливым видом осматривались в непривычной для них сельской обстановке. Бендико, выскочив из последней коляски, накинулся на ворон, с мрачным карканьем круживших низко над землей.
Путешественники были в пыли с ног до головы и принялись отряхивать друг друга, поднимая вокруг себя белые облака. На общем неопрятном фоне сиял элегантностью и чистотой Танкреди. Он ехал верхом и, прибыв в усадьбу на полчаса раньше остальных, успел почиститься, умыться и сменить галстук. Вытаскивая из многофункционального колодца полное ведро, он взглянул на свое отражение в зеркале воды и остался доволен: правый глаз закрывала черная повязка, не столько предохранявшая рану над бровью, полученную три месяца назад в боях под Палермо, сколько напоминавшая о ней; левый глаз светился такой лукавой голубизной, словно принял на себя двойную нагрузку после временно выбывшего из строя собрата; алый кант на белом галстуке явно напоминал о красной гарибальдийской рубашке, в которой Танкреди красовался совсем недавно. Он помог княгине выйти из кареты, стер рукавом пыль с цилиндра дяди, угостил карамельками кузин, ущипнул младших кузенов, чуть не до земли склонился перед иезуитом, обменялся с Бендико бурными приветствиями, утешил мадемуазель Домбрей — словом, всех насмешил и всех обворожил.
Кучера медленно водили по кругу лошадей, давая им остыть перед водопоем; рядом с благодатным колодцем, в прямоугольнике тени, отбрасываемом постройкой, слуги расстилали скатерти на соломе, оставшейся после молотьбы. Все сели завтракать. Вокруг лежали мертвые поля — желтая стерня с черными выжженными проплешинами. Плач цикад наполнял воздух, и казалось, что опаленная зноем Сицилия тщетно молит о дожде в эти последние августовские дни.
Через час, немного приободрившись, все снова тронулись в путь. И хотя усталые лошади двигались медленнее, последний отрезок пути показался коротким. За окном уже были не пугающие неизвестностью пейзажи, а вполне узнаваемые места прогулок и пикников прошлых лет. Овраги Драгонары, развилка Мисильбези, скоро покажется Мадонна-делле-Грацие — конечный пункт самых дальних пеших прогулок из Доннафугаты.
Княгиня задремала, а дон Фабрицио, ехавший вдвоем с женой в просторной карете, пребывал в бла-
ОТСУТСТВУЕТ ТЕКСТ (стр. 74?)
и в тамошних людях еще жил дух феодальной почтительности, но и потому, что, в отличие от прошлых приездов, он совсем не жалел о тихих вечерах в обсерватории и случавшихся время от времени свиданиях с Марианниной. Честно говоря, от спектакля, разыгрывавшегося последние три месяца в Палермо, его уже слегка начинало тошнить. Ему хотелось похвалить себя за то, что он раньше всех разобрался в ситуации и понял, что гарибальдийское тявканье — всего лишь сотрясание воздуха, но он вынужден был признать, что ясновидение не было прерогативой дома Салина. Казалось, в Палермо счастливы все; все, кроме двух кретинов — кузена Мальвики, который позволил полиции Диктатора[24] сцапать себя и упрятать на десять дней в каталажку, и сына Паоло, не менее недовольного, зато более предусмотрительного: замешанный в каком-то детском заговоре, он успел покинуть Палермо. Остальные ликовали, ходили с приколотыми к воротнику трехцветными лентами, участвовали в нескончаемых манифестациях и с утра до вечера говорили, ораторствовали, витийствовали. Но если в первые дни оккупации вся эта вакханалия с шумными приветствиями раненых, изредка попадавшихся на главных улицах, воплями «крыс» (агентов побежденной полиции), с которыми расправлялись в переулках, еще имела хоть какой-то телеологический смысл, то после того, как раненые поправились, а выжившие «крысы» завербовались в новую полицию, все это карнавальное безумие, неизбежное и неотвратимое, по мнению князя, в подобных обстоятельствах, превратилось в дешевый балаган. Следовало, впрочем, признать, что все это было лишь чисто внешним проявлением дурного воспитания. Что же касается существа дела, экономического и социального положения, тут все шло вполне удовлетворительно, именно так, как князь и предвидел.
Дон Пьетро Руссо сдержал свои обещания, и вблизи виллы Салина не раздалось ни единого выстрела; в том же, что из палермского дворца украли большой сервиз китайского фарфора, виноват был болван Паоло, распорядившийся упаковать сервиз в две корзины, а затем во время обстрела оставивший его во дворе на произвол судьбы, что должно было быть расценено паковщиками как недвусмысленное предложение унести корзины с собой.
Пьемонтцы (князь продолжал для самоуспокоения называть этим словом тех, кого поклонники с почтением именовали гарибальдийцами, а противники с презрением — гарибальдийским сбродом) явились к нему если и не сняв шляпы, как предсказывал Руссо, то, по крайней мере, приложив пальцы к козырькам своих красных кепи, таких же изношенных и бесформенных, как головные уборы бурбонских офицеров.
Двадцатого июня на виллу Салина пожаловал генерал в красном мундире с черными галунами, но его визит не стал неожиданностью, поскольку Танкреди успел предупредить их за сутки. Явившись в сопровождении своего адъютанта, генерал вежливо попросил разрешения осмотреть роспись на потолке. Такое разрешение последовало незамедлительно, поскольку благодаря Танкреди времени вполне хватило, чтобы убрать из гостиной портрет короля Фердинанда II при полном параде и на его место повесить нейтральную «Овчую купель»[25], что было выгоднее не только в политическом, но и в эстетическом отношении.
Тридцатилетний генерал — бойкий, разговорчивый и несколько самоуверенный тосканец, оказался, впрочем, довольно милым и хорошо воспитанным человеком. Он держался с должным почтением и даже обращался к дону Фабрицио «ваше сиятельство», игнорируя один из первых декретов Диктатора. Его адъютант, девятнадцатилетний миланский граф, совсем птенец, произвел на девушек огромное впечатление своими начищенными сапогами и грассирующим «р».
С ними явился и Танкреди, тоже в красном, успевший за время своего отсутствия заслужить чин капитана и слегка осунувшийся от перенесенных после ранения страданий; он изо всех сил старался показать свои близкие отношения с победителями, о чем свидетельствовало взаимное «ты» и обращения типа «мой храбрый друг», которые северяне произносили с юношеским пылом, а Танкреди слегка в нос, с хорошо знакомой дону Фабрицио скрытой иронией.
Князь держался поначалу снисходительно-вежливо, но «пьемонтцы» сумели развеселить его и настолько успокоить, что через три дня были приглашены к ужину В тот вечер Каролина сидела за роялем, аккомпанируя генералу, решившемуся исполнить в честь Сицилии: «Вас я вижу, места родные»[26], а Танкреди старательно переворачивал нотные страницы, будто для этой цели не существовало палочек Юный граф тем временем, склонившись к сидящей на диване Кончетте, шептал ей что-то о флердоранже и рассказывал про Алеардо Алеарди[27]. Кончетта делала вид, что слушает, а сама не сводила обеспокоенного взгляда с воскового лица кузена, которое в свете рояльных свечей казалось еще бледнее, чем было на самом деле.
Вечер прошел в атмосфере полной идиллии, а за ним последовали и другие, не менее душевные вечера, в один из которых, в связи с указом об изгнании иезуитов, генерала попросили замолвить слово за падре Пирроне, расписав его немощным больным стариком. Генерал уже успел проникнуться симпатией к его преподобию и, сделав вид, будто поверил в россказни о его плачевном здоровье, предпринял кое-какие шаги, переговорил с влиятельными друзьями-политиками, и падре Пирроне остался. Это еще больше укрепило дона Фабрицио в мысли, что прогнозы его верны.
Генерал очень пригодился и при выправлении дорожных пропусков, без которых в те горячие дни нельзя было сдвинуться с места. Именно ему главным образом семейство Салина было обязано возможностью насладиться в тот революционный год летним отдыхом в Доннафугате. И новоиспеченный капитан получил месячный отпуск, так что смог составить компанию дяде и тете. Но, даже несмотря на помощь генерала, подготовка к отъезду оказалась долгим и сложным делом. Много времени ушло на безрезультатные переговоры с доверенными лицами «влиятельных персон» из Джирдженти[28], но в конце концов, благодаря посредничеству Пьетро Руссо, все закончилось улыбками, рукопожатиями и звоном монет. Этим старым проверенным способом удалось даже получить второй, более важный пропуск Затем нужно было собрать в дорогу горы вещей и провизию, выслать вперед, за три дня до отъезда, часть поваров и слуг, упаковать маленький телескоп и, разрешив Паоло остаться в Палермо, отправиться в путь. Генерал с адъютантом явились с пожеланиями счастливого пути и букетами цветов. Когда кареты отъехали от дома, долго еще мелькали в воздухе два красных рукава, и из окошка кареты высовывался черный цилиндр князя, однако ручка в кружевной перчатке, которую надеялся увидеть юный граф, осталась лежать на коленях Кончетты.