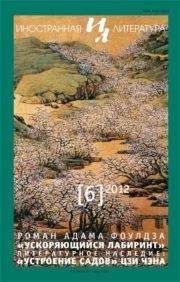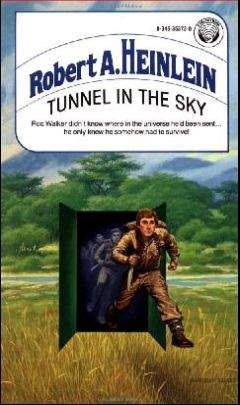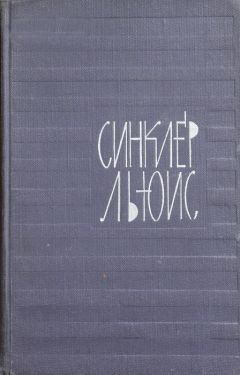Дмитрий Мережковский - Рождение богов (Тутанкамон на Крите)
– А что, Пчелка, правда ли, что и у вас тут, на Острове, отцы и матери детей своих приносят в жертву?
– Молчи, не смей! – так же как тогда, воскликнула Дио. – Если ты еще слово скажешь…
– Ну, что? – проговорила Эойя с вызовом. – Разлюбишь? Да ведь и так не любишь, будто я не знаю! Таму, брата своего, любишь, а не меня… А помнишь, говорила, что когда войду во чрево Телицы, бог мне скажет все? Ну вот и сказал.
– Что сказал?
– Сама знаешь что: если Бог такой, как думают люди, то это не Бог, а дьявол!
– Молчи, молчи, безбожница, проклятая!
Дио занесла над нею руку, как будто хотела ударить. Лицо ее было так страшно, что Эойя подумала: «Убьет. Ну, и пусть. Или я, или он!» И закрыла лицо руками. Дио тоже.
Так сидели они долго, молча. Умолкла и свирель. Все затихло. Только море дышало чуть слышно. В падающих сумерках свежее была свежесть волн соленая, теплее теплый ладан вересков, и звезда, солнечно-белая, в багровых дымах заката, еще белее, солнечней.
Вдруг Дио услышала, что Эойя плачет. Отняла руки от лица и обернулась к ней.
– Что ты? О чем?
Она ничего не ответила и заплакала еще сильнее. Дио обняла ее, чувствуя все худенькое тело ее, бьющееся от рыданий, как пойманная птица бьется в руке.
– Не любишь! Не любишь! Не любишь! – плакала так, что казалось, вся душа ее исходит слезами, как душа смертельно раненного – кровью. И знакомая боль неискупимой вины, неутолимой жалости пронзила сердце Дио.
Обнимала ее все крепче, прижимала к себе, целовала голову ее, гладила волосы и повторяла те бессмысленно-нежные слова, которыми матери утешают плачущих детей:
– Ну, полно же, полно, девочка моя хорошая, птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая! Ну, перестань, не надо плакать. Разве не видишь, что я тебя?..
И сама заплакала. Эойя взглянула на нее, всхлипнула в последний раз и затихла.
– Любишь? Правда? – улыбнулась сквозь слезы. – А его?..
– Глупенькая, разве я могу его любить так, как тебя?
– Ох, Пчелка, люби меня, – все равно как, только люби! Ведь уж недолго. Мне все что-то кажется…
– Ну, что? Говори.
– Кажется, я скоро умру. Знаешь, какой мне сон приснился намедни: матушка, будто бы, ищет меня, ловит, поймать не может: глаза открыты, а не видят, как у мертвой. И я ее очень боюсь, думаю: если поймает, умру от страха. И вдруг поймала, и мне уже не страшно, а так хорошо, вот как с тобой сейчас. И целует, ласкает, совсем как ты, теми же словами говорит: «Птичка моя маленькая, рыбка моя золотая, бабочка беленькая, разве не видишь, как я тебя люблю?» И заплакала. А я проснулась и тоже плачу от радости… Ну вот. Пчелка, это и значит, что я умру скоро.
Дио хотела что-то сказать, но не было слов; только подумала: «Ну что ж, умру и я с нею. Может быть, и лучше так: нельзя жить и любить, как мы любим. Мать земную убили – этого не простит и Мать Небесная».
Вдруг опять свирель заплакала:
О Сыне возлюбленном плач подымается,
Плач о полях невсколосившихся,
Плач о потоках неорошающих,
Плач о прудах, где рыба не множится,
Плач о лесах, где тамарин не цветет,
Плач о морях, где корабль не плывет,
Плач о садах, где вино не течет,
Плач о матерях и детях гибнущих…
– Так плачет, как будто Бог умер и не воскрес, – сказала Эойя и, помолчав, спросила:
– Пчелка, а отчего ты не хочешь мне сказать всего?
– Что сказать?
– А вот, как умер и как воскрес. Ты ведь все знаешь?
– Нет, не знаю.
– Кто же знает?
– Никто, – сказала Дио и, подумав, прибавила: – Может быть, только один человек на земле знает о Нем.
– Кто?
– Царь Египта, Ахенатон.
Вакханки
I
Страшный сон приснился Туте: будто бы он сидит на царском престоле, по Идоминову пророчеству: «Радуйся, царь Египта, Тутанкамон!» Но услышал, что под ним журчит вода, огорчился и понял, что это не престол, а водяная уборная. Вдруг треск, гром – зашаталось седалище, и он падает с него вниз головой в преисподнюю.
Проснулся в ужасе, услышал крики и, подумав спросонья, что кричат в соседней комнате, вскочил с постели.
– Ани! Ани! – позвал письмоводителя. – Что это, слышишь? Уж не земля ли трясется? Беги скорей, узнай!
Ани сбегал, вернулся и успокоил его: земля стоит крепко, а кричат здешние люди, потому что наступили дни Адунова плача.
– Чудаки! – удивился Тута. – Так вопят, как будто и вправду случилась беда.
Лег снова в постель, но заснуть уже не мог, все прислушивался к воплям.
Когда рассвело, велел подать носилки и отправился слушать плач. Встретил по дороге Таму и пригласил его с собою.
По всему дворцу и городу люди бегали, как будто искали кого-то, или, сидя у святых оград, били себя в грудь, рвали на себе волосы и под жалобные звуки похоронных флейт кричали и плакали:
– Айи Адун! Айи Адун!
Выставляли глиняные сосуды с недолговечными цветами на солнечный припек, чтобы поскорее увяли они; и плакали над ними так, как будто знали, что и все великое Царство Морей погибнет, как Адунов цвет недолговечный:
Ты – цветок, чьи корни из земли исторгнуты.
А за святыми оградами жрицы в исступленной пляске вырывали из глиняных чанов-жертвенников посаженные в них святые деревца Адуновы; бог был в каждом из них: вырывая деревцо, убивали бога-жертву.
Таму вслушался в плач:
– Увы, мой Брат! Увы, Сестра моя! Любимый, Любимая! Месяц двурогий. Секира двуострая! Адуна-Адун! – взывали плачущие.
– Проклятое царство проклятой Лилит! – бормотал он сквозь зубы.
– Что ты говоришь? – спросил Тута.
– Плакать, говорю, будут дураки шесть дней, что дважды два четыре, а на седьмой – обрадуются, что дважды два пять!
– Что это значит?
– Значит: умер человек – дважды два четыре, а воскрес – дважды два пять.
– А ты не веришь, что воскрес?
– Я, железный купец, знаю, что вера железа не сломит!
В седьмой день, воскресный, Тута отправился на Диктейскую гору, чтобы принести дар царя Ахенатона богу Адуну.
В полуторадневном пути от Кносса, на южном склоне Горы, над круглою, как чаша, котловиною, дном высохшего озера, находилось святейшее место Крита – пещера, где родился Младенец – бог.
Узкая тропинка подымалась к ней по круче скал, где блеяли козы и пчелы жужжали, так же как в древние дни, когда бога-Младенца поила коза Амалфея молоком и пчелы Мелиссы кормили медами горных цветов. Внизу котловина пылала, как раскаленная печь, а здесь, наверху, уже слышалось первое веяние вечных снегов. Но все было здесь голо, мертво, выжжено; только у входа в пещеру одинокий тополь зеленел неувядаемо, как райское древо жизни.
Туту окружили Пчелы, жрицы, молодые и старые. Дио была среди них. Он подошел к ней и попросил напиться: в святой ограде бил родник. Она зачерпнула воды в чашу и подала ему.
– Как же ты решила, дочь моя, едешь со мною в Египет? – спросил ее Тута.
– Еду, если царь и великая жрица позволят.
– Царь уже позволил, не откажет и жрица. А ты сама не раздумаешь?
– Нет, не раздумаю. Отчего ты не веришь мне?
– Оттого, что у молоденьких девушек мыслей много.
– У меня одна мысль.
– Какая?
«Видеть царя Ахенатона, величайшего из сынов человеческих», – хотела она сказать; но, взглянув на Туту, почувствовала, что лучше с ним об этом не говорить.
– Ехать, ехать! – сказала так радостно, что и он обрадовался: будет, чем похвастать, вернувшись домой: такой плясуньи, как Дио, не видал еще царь Египта; никто не приносил ему такого дара, как эта жемчужина Царства Морей.
– Мать Акакалла ждет тебя. Пойдем, – сказала Дио и повела его за руку в пещеру.
Сразу вступив из дневного света в подземную ночь, Тута как бы ослеп, а когда опять начал видеть, ночь осветилась багровыми светами факелов. Но пещера была так велика, что дальние углы ее оставались во мраке, и свод казался провалом в черную ночь. Древние старухи, жрицы, стоя в два ряда, держали факелы. Проходя между ними, Тута чувствовал, что ноги его угрузают во что-то мягкое, как пух: это был тысячелетний слой пепла от сожженных жертв.
Направо от входа возвышался первобытный жертвенник – четырехугольная куча камней: должно быть, первые поклонники Матери, дикие люди пещер, воздвигли его в незапамятной древности. Здесь приносились не только животные, но и человеческие жертвы. Налево искрилась белая чаща сталактитов, стоячих и висячих, огромных, как стволы деревьев. Там была вторая пещера, нижняя – Святое Святых, как бы разверстое чрево Матери Земли, страшная дверь из этого мира в тот. Кроме великой жрицы, никто никогда не заглядывал в нее. Там и родился Младенец бог.
В глубине верхней пещеры сидела на низком каменном стульце старуха древняя, древнее всех остальных, непомерно тучная, вся налитая желтым жиром, точно распухшая от водянки. На голове ее был остроконечный колпак с косыми полосками, желтыми и красными; на груди низкий, до пояса, вырез одежды обнажал два чудовищных сосца – два коровьих вымени или пустых бурдюка, темно-бурых, сморщенных, отвислых, как сосцы беременной суки. Все тело опутано было какими-то металлическими блестящими веревками.