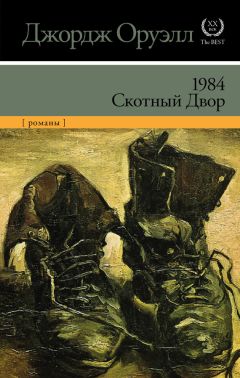Петр Полевой - Корень зла
Тургенев и Федор Калашник видели из своей засады, как эта темная неопределенная тень скользнула по двору к крыльцу и исчезла.
Прошел добрый час времени. На Посольском дворе царила такая тишина, что слышны были даже и отдаленные звуки ночи над спящим городом. И вдруг Алешенька из своей засады услышал легкий скрип шагов наверху, над крыльцом, в то же время до его слуха долетели отдельные слова из разговора двух людей, говоривших вполголоса по-польски:
— Через два дня царевича здесь уж не будет… К вам переправим на рубеж… А там уж ваше дело! — говорил один голос.
— Бардзо пшиемно, — отвечал другой голос тоже тихо. — Наияснейший пан наш круль Зигмунт его не выдаст…
— Какая польза выдавать-то! Ведь мы же все… Ведь нам только и нужно…
Тут голос понизился до шепота… Ничего не стало слышно, пока один из говоривших не произнес:
— До видзэнья, пан!
Наверху дверь легонько скрипнула, притворяясь, на ступеньках послышались осторожные шаги. Неясная тень человека, закутанного в шубу, скользнула мимо Алешеньки, который дал ей отойти на несколько шагов от крыльца и потом в один прыжок очутился около непрошеного гостя.
— Стой! Давай ответ! Зачем пожаловал? И кто ты таков? — проговорил шепотом Алешенька, хватая незнакомца за воротник шубы.
Незнакомец не смутился нисколько и проговорил совершенно спокойно:
— Испугать задумал? Думаешь, так тебе в руки и дался!
— Врешь — не уйдешь! Говори, кто ты! — горячился юноша, не выпуская воротника шубы.
— Я злой ворог Годуновым, их сгубить поклялся и на том свою душу бесу продал! — глухо проговорил незнакомец.
Алешенька невольно выпустил воротник шубы. Незнакомец и с места не тронулся.
— А ты за что дружишь им? Не за то ли, что мать-царица твою боярышню со света сжить хочет? В Кадаши без вины сослала, а теперь ладит на Белоозеро отправить?
— Ты лжешь! Быть не может!
— Или за то ты Годуновых жалуешь, что они на Романовых злобой пышут и их погубить измышляют? — продолжал незнакомец, не обращая внимания на восклицание юноши.
— Будь они прокляты! — невольно сорвалось с языка у Шестова.
— Вот это в одно слово! — быстро и горячо сказал незнакомец. — Да так и знай, их дни сочтены! Из гроба встал законный царь, в том их погибель!
— Да сгинь же ты, пропади! С нами крестная сила! — едва мог выговорить юноша, озадаченный загадочными речами незнакомца.
— Спасибо, что пропуск дал! — отвечал тот насмешливо. — Спасибо, что и приятелей своих из засады не зовешь! Ты думаешь, я не знаю?.. Я все знаю, недаром мне бес-то приятель!.. Ну так ты же не думай, господин Шестов, что я спроста к тебе в гости полез. Вот на, послушай!..
И незнакомец жалобно мяукнул по-кошачьи. В двадцати местах за оградой двора и по всему переулку откликнулось такое же жалобное мяуканье.
— Изволишь слышать? — сказал незнакомец Алешеньке. — У нас уж так порешено, что если бы я отсюда не вышел да годуновцам бы попался в лапы, мои головорезы запалили бы двор с четырех концов. Никто бы из него живой не выскочил!
В отдалении послышался свист, через минуту повторился ближе.
— Меня зовут! — поспешно произнес незнакомец. — Прощай… Да на расставание вот тебе совет: скажи своим Романовым, чтобы за кладовыми своими смотрели зорко… Есть там один предатель у них, Годуновым их продать собирается!
Свист повторился в третий раз, под самым забором. Незнакомец в один прыжок очутился на бревнах, вскарабкался по ним, как кошка, и исчез во мраке…
А юноша, совершенно растерявшийся от всего им слышанного, с минуту еще простоял на месте, словно околдованный, и Федор Калашник с Петром Тургеневым, выйдя из засады, долго не могли от него добиться толком, что с ним случилось, кого он видел, с кем и о чем он беседовал в глубоком мраке ночи?
XI
Чернец Григорий
Ночь давно уже спустилась над Московским Кремлем. Давно уже окутала она глубоким мраком кремлевские соборы, дворцы, подворья и обители. Все спит, все покоится до утра, до новых забот и тревог… Только в окошечке одной из келий Чудова монастыря чуть светится огонек.
Там при тусклом свете лампады, которая теплится перед иконой в низенькой божнице, молодой чернец Григорий склонился над ветхой рукописью и жадно вчитывается в исписанный и пожелтевший столбец. Глаза его блестят, быстро перебегая со строки На строку, лицо горит, руки дрожат, грудь подымается порывистым и усиленным дыханием. Юного инока волнует чтение той «повести», которую недавно отыскал он в патриаршей библиотеке и утаил от зрения людского, и хранит как драгоценность, и любит как запретный плод. Днем носит он ту «повесть» на груди, ночью кладет себе в изголовье, чтобы никто не мог ее похитить, чтобы ничей нескромный глаз не смел в нее ненароком заглянуть. И только тогда, когда во всей обители водворяются сон и молчание, инок Григорий припирает дверь кельи изнутри толстым колом, крадучись подходит к своей божнице, вынимает из-за пазухи заветную рукопись и прочитывает ее залпом всю, начиная от заглавия, на котором киноварью изображены слова: «Повесть, како восхоте царской престол Борис Годунов похитити», и до заключения, в котором неизвестный автор сказания восклицает: «Отселе что реку и что возглаголю? Слез время приспе, а не словес, плача, а не речи, молитвы, а не бесед… Скорьби нашей пучина и плача нашего бездна!».
И несмотря на то что инок Григорий почти наизусть выучил эту повесть, он не может читать ее без волнения. Прочитывая некоторые места рукописи, он отрывается от нее на минуту, шепчет невнятные слова, грозит кому-то кулаком и потом опять углубляется в чтение:
«И тотчас убийц всех изымаша и приведоша их на двор и реша им граждане: «Окаяннии и злии человеци! Како дерзнуше такое дело сотворити?» Они же окаяннии стояху и зряху семо и овамо, и реша к народу: «Кровь неповинная нас обличила, послушали мы прелестника Бориса Годунова…»
— Послушали окаянные окаянного! — шепчет, качая головой, инок. — И подняли руку на царское детище!
И затем опять продолжает чтение:
«И пришедше во двор царский и видеша юного царевича заколота ножом яко агнца… Мати же его над ним стоящи, плачущися…»
— Притворялась только, что сына оплакивает, — прошептал Григорий, — а сама знала, что сын ее уж далеко, что вместо его заколот попов сын… А царевич-то — вот он!
И Григорий выпрямляется во весь рост перед божницей и обводит кругом себя горделивым взглядом.
— Царевич! — сказал юноша. — Хорош царевич! Поет на клиросе с дьяками, спит на соломе… Дрогнет в сырой келье под старой овчиной… Так, может быть, и весь век свой проживет?.. Укрываясь от окаянного Бориса и от ножей его убийц!
И Григорий бережно свернул столбец, завернул его в тряпицу и сунул под изголовье. Потом и сам прилег на жесткую постель, прикрылся нагольной шубой и попытался уснуть.
Но это было нелегко. Воображение после чтения рисовало ему один образ за другим, воскрешало перед ним прошлое, манило в будущее. То представлялся ему в виде отдельного воспоминания, утратившего яркие краски действительности, тот боярский дом, в котором он рос еще ребенком, где-то далеко от Москвы. Он даже видел перед собой того боярина, который воспитал его и часто, лаская его и гладя по головке, называл «царским рожденьем». Тот добрый боярин его и грамоте выучил, и говаривал ему не раз: «Учись, царскому сыну надо быть грамотным».
Потом начались какие-то переезды, какие-то странствованья, о которых детская память не сохранила связных ясных воспоминаний. Ему казалось, что детство минуло, как сон, и тотчас после того сменилось бесконечной вереницей тяжелых, грустных дней. Григорий помнил только, что лет восемь тому назад служил он во дворце князей Черкасских, что там его никто не называл ни «царевичем», ни «царским рожденьем», что все считали его сыном какого-то галицкого боярина, что слуги над ним смеялись, когда он отказывался от своего отца и говорил о своем знатном происхождении.
«Чего хвастаешься? — дразнила его княжья челядь. — Не лучше ты нас! Такой же холопич, от холопки под кустом родился, холопом за кустом и помрешь».
И Григорий помнил, как он плакал слезами бессильной злобы в ответ на эти насмешки и грубые шутки дворни.
«Потом? Что было потом?..» — спрашивал себя юноша в полудремоте.
И ему вспомнился тот чудесный весенний день, когда его впервые увидал боярин Федор Романов и выпросил себе у князя Черкасского. «Дай мне мальчишку, он шустрый, грамотный, пусть во дворце моем растет, а там в дьяки либо в приказные его пристрою…»
— И хорошо жилось на романовском подворье! — вслух произнес Григорий. — Не то что здесь… Здесь — как в могиле… Как в сырой земле… Здесь душно! Давят эти стены, нет воли разгуляться силе молодецкой! На коня бы сел, вихрем бы по полю носился, копье бы в руки! С врагом бы переведаться, на Бориса окаянного рать бы повести… Ох Господи! Неужто сгинуть придется здесь?