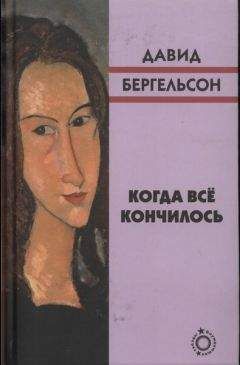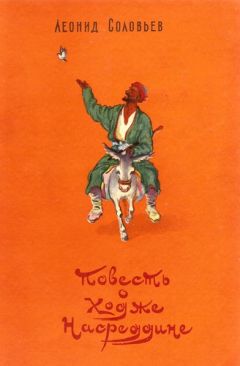Давид Бергельсон - Отступление
— Так, — сказал по-русски Аншл, и его губы скривились еще больше.
Беседа снова вернулась к умершему Мейлаху и Хаиму-Мойше.
— А что он тут делает, Хаим-Мойше?
— Почему Мейлах так его любил, почему так часто говорил о нем?
— Правда, чувствуется, что Хаим-Мойше и Мейлах были странно близки друг другу, словно один человек: ближе, чем братья?
— Чем он вообще занимается, Хаим-Мойше?
Оказалось, что родственник мадам Бромберг, студент, знает, кто такой Хаим-Мойше: они знакомы по большому городу, где учился доктор Грабай; Хаим-Мойше — химик, инженер.
— Почему именно химик? Трудно сказать. Он вообще удивительно способный, прекрасно знает математику, доктор Грабай говорит. Только несобранный, другой на его месте давно бы прославился. Кажется, дает уроки математики, издал две книги, по которым студенты к экзаменам готовятся, хотя на этом не разбогател.
Студент согласен, что сто рублей, которые Хаим-Мойше недавно дал Песл Заливанской, для него слишком большая сумма. Он может рассуждать совершенно здраво, этот студент. И человек он, похоже, совсем неплохой.
— Во всяком случае, — говорит он, — в его положении подарить сто рублей — это очень много.
Его слушают с интересом. Разговор стихает, потом возобновляется.
— А что бы было, например, если бы Мейлах был жив и сейчас пришел сюда, к магазину?
И все удивляются, что этот вопрос задает именно она, Хава Пойзнер. Не значит ли это, что между нею и Мейлахом действительно что-то было? Не значит ли это, что, будь Мейлах жив и приди вдруг сюда, она бы попросила Цудика и студента уйти, а сама осталась бы тут с ним до поздней ночи?
* * *Настроение у Хавы Пойзнер день ото дня все радостнее, все взволнованнее. Все вечера она просиживает на крыльце закрытого магазина, и по мере того, как темнеет небо, ее огромные, чуть навыкате глаза разгораются все ярче. Она выглядит так, словно много лет ждала какого-то необычного, желанного гостя. Но вот Швуэс настал. Вечер: улица подметена, Хава приоделась, а гостя все нет…
Деслера она больше не вспоминала.
Кроме того, она нанесла в городе несколько визитов. Пришла к доктору Грабаю, пожаловалась, что у нее постоянно звенит в левом ухе. Было около пяти пополудни. Невысокий, черный, как цыган, доктор только что усталый вернулся из земской больницы, где каждый день работал с раннего утра, и в его недавно побеленном домишке было невыносимо жарко от солнца и оттого, что доктор держался очень сухо. Она сразу показала ему маленькое ушко, сильно покрасневшее и горячее, как огонь; оно пахло точь-в-точь как ее волосы и платье. Но доктор Грабай даже и смотреть не стал, сказав, что беспокоиться не о чем, это ей передают приветы предки по материнской линии, праведные евреи, только и всего:
— Ерунда это.
У любимого всем Ракитным, постоянно занятого доктора все было ерундой, даже то, что он когда-то был видным партийным деятелем в большом городе, где учился, а теперь никто не помнит там его имени; даже то, что его бросила жена, необыкновенно красивая и гордая женщина, оставив его в чисто побеленном, залитом солнцем домишке с маленькой дочкой и вымуштрованной деревенской служанкой.
— Ерунда это, — повторял доктор Грабай.
И при этом его молодые серые глаза улыбались, а морщинки вокруг них разглаживались, будто хотели сказать: «И умен же ваш доктор Грабай, а? Как тысяча чертей умен! Только жалеть его не надо».
И чтобы никто его не жалел, чтобы Хава Пойзнер не подумала, что на сороковом году докторской жизни ему нужно днем все-таки поспать, он собрался с силами и пошел ее проводить. Покачиваясь на ходу, он ловко нес свое полное усталое тело на коротких, крепких, пружинящих ногах и слегка приподнимал шляпу всякий раз, когда с ним здоровались его пациенты-почитатели. Он словно их не замечал, своих поклонников, но все же отвечал на приветствия. В его глазах была грустная усталость, давняя, тусклая, как вся жизнь любимого и знаменитого на всю округу врача. И когда по дороге им встретился Хаим-Мойше, он остановился, несмотря на то что Хава Пойзнер была с ним незнакома.
— А вот и еще один, — указал он на Хаима-Мойше пальцем и улыбнулся всеми морщинами вокруг серых глаз; он будто чувствует себя виноватым и перед Хаимом-Мойше и не хочет, чтобы тот его жалел. — Познакомьтесь, — тут же добавил доктор.
Он рассеянно заложил руки за спину, обтянутую белой летней курткой, и принялся рассказывать, как он, доктор Грабай, после университета пять лет не снимал студенческой тужурки и студенческой шляпы и держал одну блестящую речь за другой. В большом городе его партия была самой сильной. Один день он помнит, как вчера:
— День великой дискуссии — так его называли.
Это было в Йом-Кипур[8] ранней осенью, но жара стояла, как в разгар лета. Синагоги были полны, а синагогальные дворы — тем более. Внутри старики кричат «Унсане тойкеф»[9], а в переполненных дворах ожесточенно спорит молодежь. Его, доктора Грабая, водят из синагоги в синагогу, во дворе поднимают на руках, и он говорит. Он уже вовсе не думает о содержании, ведь он столько раз перед этим повторил одно и то же, и слова текут сами собой. И всюду, в каждом синагогальном дворе он встречается взглядом вот с ним (доктор Грабай снова указал пальцем на Хаима-Мойше и опять улыбнулся всеми морщинками вокруг глаз). Вот тогда-то доктор и решил раз и навсегда: «Должно быть, он далеко не дурак, этот рыжий парень».
Что доктор хотел? Может, думал польстить Хаиму-Мойше в присутствии Хавы? Или просто это была его манера, привычка притягивать к себе людей, приобретать в Ракитном почитателей, чтобы все забыли об усталости, которая не проходит, и о жене, которая бросила его, несмотря на все его достоинства…
* * *Хаим-Мойше чувствовал себя неловко. Он не знал, что сказать. Он только что пришел из леса, где удачно провел день, хотя и немного беспокойно. Он писал. А теперь вот неожиданно столкнулся с Хавой Пойзнер нос к носу. Ничего странного: он все утро думал о ней и о Мейлахе, а теперь, придя в город, сразу ее увидел. Ее стройная, гибкая фигура, как всегда, покачивалась на высоких каблуках, слегка прогнувшись, как на ходулях, а глаза были совсем не такие выпуклые, какими казались издали. Но действительно, они были большие, и в их глубине светились хитрость и ум. И каждый раз, когда они на него смотрели, ему приходилось отводить взгляд, так сильно ее глаза напоминали ему о нем самом, о Хаиме-Мойше, и о его первом дне в Ракитном, о мертвом Мейлахе, даже о лампе, которую она зажгла в доме Мейлаха на второй день после его смерти.
— Мейлах был близок к рабочим?
— А?
Хаим-Мойше вдруг словно проснулся. И когда проснулся, увидел, что доктор Грабай о чем-то задумался, что они втроем шагают по улице вниз, к рынку, и что слова «Мейлах был близок к рабочим?» произнесла Хава Пойзнер; она задала вопрос неслучайно, может быть, желая его удивить, застать врасплох.
— Да, — ответил он до странности просто, не повернув головы в ее сторону, — его за это сослали на два года.
— Ну, а потом? Поселился в Ракитном?
— Потом? — На этот раз он посмотрел на нее. — Потом Мейлаху стало обидно, что он чуть-чуть не дотянул стать большим человеком.
И вдруг он почувствовал недовольство собой. Из-за того что отвечает слишком просто, буднично, и слишком умно. Недовольство, что его чувство к ней, Хаве Пойзнер, — такое давнее, привычное, унаследованное от Мейлаха и много раз пережитое во сне. Он заметил, что к ним подходит родственник мадам Бромберг, студент, и быстро простился, затем, помрачневший, пошел обратно к дому Мейлаха.
Что, собственно, он делает здесь, в Ракитном?
Он хочет довести до конца то, что начал, вот и все. Он собирался прожить пару месяцев у Ицхока-Бера в лесу и проверить, способен ли он провернуть одно дело… Но тут от матери Мейлаха, вдовы, стали приходить тревожные письма: с нее дерут три шкуры в сберегательной кассе, куда она положила для Мейлаха немного денег. В каком-то смысле это теперь обязанность Хаима-Мойше: он должен переписать все, что осталось в аптеке, и найти покупателей на инвентарь и медикаменты. Только после этого он сможет осуществить то, что задумал.
* * *Он трудился в аптеке Мейлаха каждый день, не меньше двух часов, открывал только один ставень и сортировал товар.
Часто, забывшись, он начинал рыться в бумагах Мейлаха, которые лежали в ящике стола во второй, меньшей, комнате; с огромным интересом читал письмо за письмом, перебирал их, снова принимался за чтение. Оказалось, одно время Хава Пойзнер писала Мейлаху отовсюду, куда бы ни уезжала. Мейлах тогда был, можно сказать, маленьким царьком. Но Хава Пойзнер так замысловато подписывалась, что ни одна живая душа не догадалась бы, чье это письмо; она будто не верила в собственную преданность Мейлаху и боялась, как бы эти письма потом ей не повредили. Получается, однако, что мягкое обращение Мейлаха с не слишком красивой, молчаливой Этл Кадис — не более чем притворство или долг жениха? Как же на это смотреть?