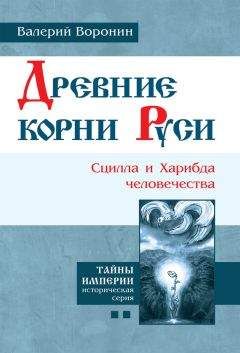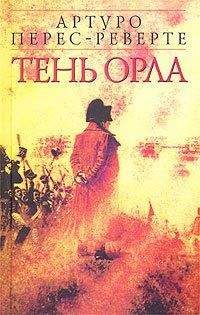Николай Платонов - Курбский
Мысли лезли странные, яркие — не мысли, а лица, стены крепостные, следы подков на грязной улице и тело чье-то раздетое, опухшее, без головы. Нет, не уснуть..; Как он некогда спал! Как ребенок. На то и воинская жизнь, чтоб крепко спать — дело сделал и спи. Как дети спят… Дети… Как он тогда с Алешкой спал на сеновале, Когда в объезд ездил с ним по своей волости. «Чего ты хочешь от меня, душа моя?!» — Он спросил это шепотом, но увидел сына еще яснее: он скакал за ним к реке, к броду, вечером по розовато-бурому лугу, и конь Алешкин был алым. Алешка, сын девятилетний, в белой рубашонке, оборачиваясь, улыбался: «Попробуй догони!» — и белели зубы на загорелом лице, ветром относило выгоревшие волосы. По мелкой воде сын погнал вскачь через отмель-брод, вода брызнула золотым взрывом, раскололся тихий плес, а сын все смеялся — не догонишь! А на сеновале спал прижавшись, дышал еле заметно, золотился пушок на шее, безмятежно отдыхало детское лицо, тоненькая рука обнимала плечо. Что видят дети во сне?
Андрей опять открыл глаза. Боль и любовь возникли одновременно, и он не мог отвернуться, приглушить боль, потому что тогда пропадала и любовь; спящее лицо сына Алёшки стало пропадать, он стиснул зубы, но оно пропало, только детский запах остался на подушке. «Что ты хочешь, душа моя, от меня?» — спросил он еще раз. Душа хотела видеть сына: пусть будет боль, но и сын. «Боль — это жизнь, только если болит, значит, я жив», — подумал Андрей внезапно. Он знал, что днем опять омертвеет, одеревенеет, потому что на войне нельзя спокойно действовать, если не одеревенеешь, и сейчас он хотел опять вернуться к боли, но уже не мог.
Лица заполняли день, а дни заполняли время, летние суетливые дни сбора людей, коней, обозов, припасов и прочего военного снаряжения. Лица возникали внезапно, и некоторые из них выбивали из привычной суеты. Так возник Тимофей Тетерин, сотник, голова стрелецкий, бежавший из Псково-Печорского монастыря. Он стоял, высокий, пыльный, жилистый, прокопченный, смотрел светлыми глазами пытливо, смело и говорил:
— К тебе хочу, князь Андрей, ты меня знаешь, а я — тебя.
Так оно и было, и Курбский был рад. Потом к вечеру они сидели с Тимофеем и давно уже уехавшим в Литву стариком Семеном Вельским[68] и пили, и Андрею было неловко от той спокойной жестокости, с которой Тимофей и Семен вспоминали неудачи в походе на Ревель, где у пленных стрельцов шведы выжгли глаза, и еще более стало противно, когда Вельский, презрительно поплевывая, начал высмеивать невежество русских дворян, их неразборчивость в еде и деревенскую простоту, а главное — их мужицкие суеверия. «Кто ж ты сам? — думал Андрей. — Какой ты веры? Уж не отступником ли тут стал? Тимофей-то свой, православный, но и Тимофей не будет пленных брать…» От мыслей этих поднималась изжога душевная, пустота…
Старик Вельский мельком, но цепко глянул на помрачневшего Курбского.
— Хороша у тебя брага, князь, — сказал он.
— Это не моя — Радзивилла Черного. Моего тут ничего нет…
— Наживешь, не сомневайся, — сказал Вельский.
У него была маленькая тускло-серебряная голова, морщинистое остроносое лицо, сухое, обветренное, а глаз как у птицы — зоркий, неморгающий.
— Наживем, была б голова на плечах, — подхватил Тетерин. — Это не то что у князя Московского — у него одни дьяки безродные да шептуны в соболях ходят, а мы, войсковые вечники, хрен от него получали за наши раны.
— Кто сейчас в Юрьеве сидит? — спросил Курбский.
— Морозов Михаил Яковлев сын. Вместо Бутурлина прислали, но и он долго не усидит, мы ему так с Сарыгозиным[69] и отписали.
— Отписали? — удивился Вельский. — Зачем?
— А он обо мне и Сарыгозине пану Полубенскому[70] писал с бранью, изменниками нас окрестил, собака! — Голос Тетерина повысился, лицо побурело. — Не постыдился так обозвать православных! — Он пристукнул кулаком по столу. — Но мы ему отписали, как отрезали. Да вот, хотите, я прочту — список при мне…
— Прочти! — сказал Вельский.
Тетерин вытащил лист, разгладил, откашлялся.
…Господину Михаилу Яковлевичу Морозову Тимоха Тетерин да Марко Сарыгозин челом бьют! Писал ты, господин, в Вольмар князю Александру Полубенскому и оболгал нас, а мы хоть и тоже умеем собакой отбрехиваться, но не хотим твое безумство повторить. Знай, что если б были мы изменниками, то мы бы давно от малых неудобств и тягот сбежали с государевой службы, но мы терпели ради Христовой заповеди и отъехали только от многих нестерпимых мук и от поругания монашеского чина — ангельского образа… И ты, господин, бойся Бога больше гонителя и деспота и не зови лживо православных христиан изменниками!
Тетерин сложил письмо и оглядел лица товарищей.
— Там мы еще приписали ему, что и его истребят с женой и ребятишками — пусть подумает!
— Да, — сказал Семен Вельский и кивнул. — Пусть подумает, да и не он один!
Курбский промолчал.
На другой день к вечеру пришел человек в немецком платье, сонный, носатый, и сказал:
— Ты, вижу, не помнишь меня, князь. Я слуга графа Арца, Олаф Расмусен[71].
Тогда Курбский вспомнил, как ночью под Гельметом караульные привели к нему в шатер этого человека. Он был не сонный, просто лицо его стало бесчувственным, стертым, как у тех людей, которые всю жизнь живут опасной профессией лазутчиков и потому как бы омертвели до незаметности. Олаф был шведским перебежчиком.
— Где граф Арц? — спросил Андрей.
— Его колесовали в Стокгольме, — бесцветно ответил слуга графа, — Прошу тебя, возьми меня на службу, потому что теперь мне не доверяют ни шведы, ни немцы, ни поляки.
«Так вот почему, — подумал Андрей, — вместо открытых ворот Гельмет угостил нас картечью!»
— Кто предал нас? — спросил он.
— Не знаю, — ответил слуга. — Если б я знал, то убил бы этого человека. Даже если б он был герцогом.
И Андрей, глядя в его мутные, вялые глаза, поверил в это.
— А где наместник Гельмета герцог Юхан?
— Его казнил наш король, хотя он не знал, что граф Арц хотел сдать тебе город.
Курбский подумал и взял слугу графа к себе в дом: люди, у которых никого нет, бывают верными.
Унижение беглеца, нищего, одинокого, подозреваемого всеми… Изменивший одному сюзерену изменит и другому, и третьему. Не верь перебежчику. Не верь иноверцу. Заменить родину нельзя, как нельзя отречься от матери. Можно, конечно, и от матери отречься, но такому человеку не место ни на земле, ни даже в преисподней… «Наверное, так думают про меня литвины и поляки», — повторял про себя Курбский, и от этого росла с каждым днем мечта изгнать Ивана, царя Московского, и посадить на его место достойнейшего из Рюриковичей, может быть даже его сына. Но — изгнать! Эта мечта родилась ночью и не давала спать по ночам, не с кем было поделиться этим замыслом. Сам с собой, воспаляясь постепенно во тьме, ворочаясь, шепча под нос, он высчитывал количество пехотинцев, пушек, даже сколько надо будет пудов муки, сала, гороха, овса… Он вычерчивал в мозгу пути через леса, намечал переправы, броды, объезды болот, составлял письма боярам, князьям, сжимал челюсти и кулаки. И все это от унижения, в которое вверг его Иван, вынудив к побегу…
— Надо выступать не на Полоцк, а на Москву, — говорил Курбский Радзивиллу Черному. — Если мы соберем пятьдесят тысяч и сто пушек, мы пройдем до Москвы. Я один знаю, как провести такую армию. Закуйте меня, привяжите к телеге и, если я солгал, убейте. Иван боится, он побежит, его не будет никто защищать, кровопийцу и кощунника!
Лицо Курбского наливалось гневом, глаза голубели отчаянием. Радзивилл смотрел на него и качал головой, ничего не отвечая.
Петр Смолянинов[72] — последний из близких друзей — появился вечером как из небытия, в польском кафтане с расшитой перевязью, волосы его были расчесаны, на груди — золотая цепь. Сначала Курбский его не узнал, потом узнал и изумился, а вглядевшись в радостное лицо Петра, в его глаза, не скрывающие любви, встал с кресла и прижал к груди. Отодвинул, еще раз вгляделся и опять прижал как брата.
— Откуда ты?!
Еще из Дерпта в марте он послал Петра, молодого, но начитанного, преданного духовным писаниям, в Полоцк к владыке Киприану, епископу Полоцкому, хранителю лучшей библиотеки в Западной Руси. Он писал Киприану и просил сделать для него список с рукописи Филофея[73] о «Москве — третьем Риме» и с писем кирилловских старцев против иосифлян[74]. Петр уехал и как сквозь землю провалился. А потом был побег, мытарства, и все стало истаивать, стираться в памяти. Но вот вдруг это явление, эта искренность, молодая, правдивая.
— Откуда ты?!
— В Полоцке узнал я вести из Москвы о царских опалах на родню мою в Ярославле и решил бежать, — говорил Петр, улыбаясь счастливо. — И король дал мне имение в Кременецком повете — Дунаев и Вороновцы, и там я побывал, а теперь вот сюда, в войско, со своим отрядом… А здесь узнал я, что и ты, князь, тоже… — Петр смутился чего-то: он всегда был чуток, как женщина.