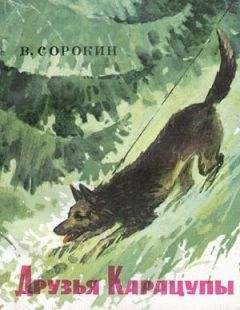Евгений Салиас - На Москве (Из времени чумы 1771 г.)
– Ну-с, до свидания, высокоблагородная Авдотья Ивановна! – сказал Алтынов, прощаясь. – Завтра утром принесу денежки, а вы уж будьте столь добры, приготовьте все… Что же хорошего, если она начнет ломаться, да придется мне, яко владетелю законному, идти за будочником?! Срамоту пустим на всю улицу, и не столько мне будет срамно, сколько вам. Что же? Я купил, деньги отдал, и вы продать были вольны! А тут вдруг будет ослушание. Скажут все, что вы ей не барыня!
В эту минуту за спиной говорившего Алтынова раздался тихий голос:
– Никакого ослушания и никакой срамоты не будет!
Все обернулись. Уля, бледная, но спокойная, стояла на пороге горницы.
– А будешь артачиться, – закричала вдруг Авдотья Ивановна, – так слышала? С будочником на веревочке через Москву и поведут!
– Позвольте, – протянул руку Алтынов к барыне, – не серчайте! Я уже им говорил, да оне слушать меня не захотели. – И он обернулся к Уле. – Опять я вам скажу, будьте спокойны! Хотя по документу вы значитесь простого, крестьянского звания, но я знаю, кто вы такая. Неужто вы думаете, что я покупаю вас для каких-нибудь черных и для вас неприличных работ? Помилуйте!.. Да на то у меня есть прислуга. Вам у меня будет житье хорошее. И горница у вас будет своя, и звать вас все будут по имени и отчеству – Ульяной Борисовной. И обиды вам у меня никогда никакой не видать, божусь я вам перед Богом… Вот, на образ глядя, крестом знаменуюсь…
Покуда Алтынов убедительно говорил, даже прижимал кулак к груди, Уля как-то тупо смотрела на него, и ни одной мысли ясной не было в голове девушки. Она действительно чувствовала, что за последние два дня как бы отупела. Сначала она все думала и раздумывала, как избавиться от гнусной продажи; но, конечно, ничего не придумала, кроме как пойти утопиться, броситься с Каменного моста в Москву-реку, которая была в нескольких шагах от дома.
Теперь, глядя на грудь Алтынова, но которой он убедительно стучал себя кулаком, она бессмысленно считала медные пуговицы на его сюртуке и на камзоле, видела, как нескольких пуговиц не хватало, видела, как из кармана камзола торчал вязаный с бисером кошелек с рваным концом. Однако там, где-то на сердце, будто лежало тяжестью твердое решение – покончить с собой, которое она неуклонно надеялась исполнить.
Опытный крючок Мартыныч глядел теперь на нее, не сморгнув, через свои огромные очки, сидевшие как верхом на его огромном, красном носу. И, пристально всмотревшись в бледное лицо девушки, в ее большие ясно-серые глаза, Мартыныч чуть слышно пробормотал что-то и почесал у себя за ухом.
Он думал про себя:
«Ну, я бы тебя, стрекозу, покупать не стал… С тобой Егорычу-то помаяться немало. Ваша сестра, вот такая, как ты, такое колено отмочить может, что деньги прахом пойдут».
И Мартыныч вспомнил, как весной, после продажи одной дворовой девки, вроде Ули, он же ходил в суд по уголовному делу. Проданная девка зарезала своего нового барина, подожгла дом, а сама бежала и была уже поймана случайно в Ярославле.
– Так вы обещаете мне, – говорил между тем Алтынов Уле, – что никакого завтра содома у нас не будет? А то и припасу начальство… Потому что, как вам, может быть, неизвестно, бумага, написанная сейчас здесь, будет подписана в суде, а завтра утром и деньги ваша барыня от меня сполна получит.
Уля молчала и пристально, хотя чуть-чуть бессмысленно, смотрела в лицо Алтынова.
– Ответствуй же! Что столба из себя изображаешь!.. – закричала опять Авдотья Ивановна.
Уля спокойно перевела глаза на Авдотью Ивановну и выговорила тихо и медленно:
– Хотите вы одну мою просьбу, последнюю, исполнить?.. Позвольте мне остаться у вас денька три, покуда Капитон Иваныч совсем выздоровеет или уже… – голос Ули дрогнул, и она едва слышно прибавила: – или скончается…
Авдотья Ивановна и Алтынов переглянулись и молчали.
– Позвольте обождать. Или выходить Капитона Ивановича, или похоронить… И тогда я, как перед Богом, без всякого сопротивления пойду хоть к ним…
И продавщица, и покупатель молчали в нерешимости, не зная, согласиться ли с живым товаром. Опытный крючок Мартыныч решил дело.
– На мой толк, Прохор Егорыч, следовает вам дать свое согласие. С первого раза сделайте поблажку сей девице – будет не в пример лучше… Я их сестру знаю… С ними только лаской да потворством что сделаешь, а приказами или розгами ничего не поделаешь. Это ведь – извольте видеть – что такое? – указал Мартыныч прямо в Улю своим толстым пальцем, выпачканным в чернилах. – Знаете вы, что такое вот под сим серым платьем перед вами состоит? Ведь это, сударь мой, порох! Именно говорю вам: порох. Пороховой магазей!.. Подсунь сюда сернячок или уголек, – в пример я так говорю, – так произойдет такое происшествие, что все тут вверх ногами встанет. Иная дурашная баба, доложу вам, может целый квартал одним чихом в месиво обратить! В римской истории, доложу я вам, был такой случай: одна римская баба во время одной войны…
Но Прохор Егорыч не дал Мартынычу рассказать про римскую бабу и про войну. Он обратился к Уле и, потолковав с ней, согласился на то, чтобы девушка оставалась у Воробушкиных вплоть до выздоровления или вплоть до кончины Капитона Иваныча, но обещалась бы добровольно идти к нему. Однако Алтыпов дал Воробушкину срок и выздороветь, и умереть. Более недели ждать он не соглашался, и условие это было для него важно, так как тайные переговоры о перепродажи Ули были у него уже начаты.
Через минуту Алтынов и Мартынов вышли за ворота дома, и подьячий мелкими шажками, припрыгивая, едва поспевая за здорово шагавшим Алтыновым, досказал ему и про римскую бабу, и про войну и передал ему все свои соображения в доказательство того, что Алтынов напрасно купил порох в ситцевом платье.
– Ну, ну! – спокойно отвечал Алтынов, – не учи! Знаешь пословицу: «Ученого учить, только портить».
– Да я, Прохор Егорыч, знаю, что у вас ума палата, но извольте видеть…
– Да, братец, – сострил Алтынов, – у тебя есть палата, да только не ума, а казенная, а у меня именно палата ума. Не с этакими я дело благополучно до конца доводил, как эта девчонка. А если это порох, то мы, Мартыныч, первым делом его подмочим.
– Да как, Прохор Егорыч? Как подмочить?
– А вот как, голубчик. Уведу я ее к себе на целую неделю, сам буду перед ней на карачках ползать, да и всех в доме заставлю ей в глаза глядеть да ее приказы слушать. Ей мой дом и покажется раем небесным после криков да брани Авдотьи-то Ивановны. А там, как станет она у меня шелковая, тут я ее в гости и поведу – хоть к бригадиру, – да в гостях и оставлю. Оттуда бегай, сколько твоей душеньке угодно, когда я получу уже с него по документу триста рублей.
XIII
В конце Знаменки, там, где она вдруг крутым спуском примыкала к речке Неглинной, на открытом месте торы стояли большие барские палаты, видные отовсюду… Дом выходил на Знаменку и переулок, а с горы шел вплоть до речки большой сад с огромными столетними деревьями. Дом был построем котда-то в начале столетия известным на всю Москву боярином Ромодановым.
Андрей Иваныч Ромоданов уже лет с десять как умер. В этом доме жила теперь его вдова Марья Абрамовна Ромоданова, урожденная княжна Колховская, женщина лет шестидесяти, но которой на вид нельзя было дать и пятидесяти.
В огромном доме, кроме старой барыни, жил еще ее единственный внук, молодой барчонок, недоросль двадцати лет, Абрам Петрович, и затем десятки, если не вся сотня всякого рода прихлебателей.
Два огромные флигеля и многие надворные строения были переполнены бесчисленной дворней.
Еще в царствование императора Петра II,[15] когда весь двор переселился в первопрестольную, вместе с этим двором переехал в Москву и князь Абрам Колховской с своей семьей. И здесь, в Москве, незадолго до смерти молодого государя, князь отдал свою пятнадцатилетнюю дочь, богатую приданницу, за придворного Андрея Ромоданова, который был почти нищ, но зато считался приятелем Долгорукого,[16] фаворита государя.
Не прошло и нескольких месяцев после свадьбы, как Долгоруков отправился в ссылку, и князь горько сожалел, что поспешил со свадьбой.
При воцарении государыни, покровительницы немцев, оба семейства, и Колховские, и Ромодановы, остались в Москве и перестали сразу быть близкими ко двору людьми.
Андрей Иванович Ромоданов, с первых лет супружества, не только забрал в руки свою молоденькую жену, но и всю ее родню. Он отличался умом, большим красноречием и тяжелым нравом и скоро был прозван в Москве Соловьем-Разбойником.
– Говорит – что твой соловей, а действует – что твой разбойник! – отзывались о нем знакомые.
Начиная от старого тестя и жены, Марьи Абрамовны, и кончая даже знакомыми, все трепетали перед Андреем Ивановичем. Князь-тесть вскоре умер, а молоденькая Марья Абрамовна была тотчас заперта, как в монастырь, и муж позволял ей только иногда появляться на больших балах или на больших обедах.