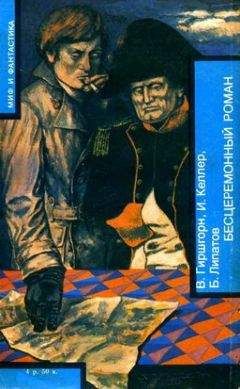Владимир Лебедев - За святую обитель
— Ох, погубят ляхи и обитель, и нас всех!
— Диавольским зельем разобьют башни, сдерут с образов оклады драгоценные, разрушат храмы Божий!
— Смерть приходит лютая!
Так шумела и стонала толпа в обители. Голосили в слезах старухи-богомолки.
Громче всех жалобилась старуха из села Здвиженского — мать Грунюшкина; подбирала она такие причитанья жалостливые, что все кругом слушать ее собирались.
— Ох, прогневали мы, сироты, Господа-Бога и угодника Сергия! Предал он нас ляхам нечестивым… Ведут они под обитель ходы темные-темные, глубокие-глубокие… Сыплют туда богоборцы зелье адское бочками полными… И засыплют те ходы страшным огнем диавольским, громом и молоньями разразятся… Погибли наши головушки сиротские! Готовьтесь к смерти лютой, православные, ложитесь во сыру землю!
Старики и старухи да дети несмышленые ручьями слезы лили. Мало-помалу охватил ужас и многих воинов, и послушников… Стон и рыдание стояли над обителью…
Из сил выбился отец архимандрит, истомились и старцы, усовещивая робких, вразумляя испуганных.
Князь-воевода обходил стены и башни, ободрял пушкарей, стрельцов и казаков, указывал им на груды вражьих трупов, что остались на полях после приступа; на их лестницы, туры и щиты, изломанные, полусожженные обительскими защитниками.
— Глядите, молодцы! Вот мы как ляхов встретили! И опять так же встретим нечестивцев; пусть только снова полезут. А подкопы ляшские не страшны нам: крепки стены монастырские!
Понемногу ободрялись бойцы; бодрее глядели на ляшские туры, откуда не переставали сыпаться ядра и пули. Смело отвечала обитель на град выстрелов; по-прежнему гулко гремели колокола.
Под вечер стала пальба утихать; утомились что ли враги, или какую-нибудь лукавую казнь измышляли…
Стемнело, дождь пошел, тихо стало и на стенах, и на дворах обители, зажглись огоньки во всех окошках, запылали костры у тех богомольцев, что ютились вне зданий монастырских. Еще слышались причитания и плач богомолок, но уже спокойнее была толпа; многие спали крепким сном… Ляшский стан тоже загорелся во тьме ночной огромным огненным кольцом от тысяч костров.
Воевода-князь Долгорукий не ушел, однако, на эту ночь отдыхать в келию, да и дружину свою не распустил со стен: всех под оружием оставил, велел наносить наверх сухих сучьев, наказал пушки зарядить…
Хотя и дивились приказу воеводы: "Ужли беспросветной ночью ляхи на приступ пойдут?!" — но сторожили крепко монастырь послушные воины, зорко вглядываясь в ночную тьму…
Не дремал и отважный Ананий Селевин, притаясь позади двери у Сушильной башни. Выходил тот потайной ход к темному и глубокому Глиняному оврагу, поросшему частым кустарником. С Ананием рядом стоял Тимофей Суета, налаживая тяжелую пищаль. Тихо было кругом; только дождь да ветер шумели изредка в оголенных кустах оврага…
— Слышь, Ананий, — шепнул неугомонный Суета, — чего мы здесь схоронились и запоры задвинули? Ладней было бы отомкнуть дверь: пусть войдут ляхи — а мы и грянем… В темноте-то они с одного страху помрут, сломя голову к стану побегут…
— И вправду, так ладнее будет, — согласился Ананий. Отомкнули молодцы запоры, а дверь притворили: пусть-де ляхи думают, что по оплошке ход не заперт…
Опять потянулось долго и скучно глухое ночное время… У каждого из молодцов свои думки в голове бродили. "Ой, приведет сюда Оська ляхов! — думал старший Селевин. — Захочет сразу в милость попасть, поживиться с разбойниками добычей… Погоди ж ты! Бить на смерть не буду; не велел отец игумен-то. А изловить — изловлю и в обитель сведу: пусть его воеводы и старцы судят… И в кого он такой уродился? Кажись, вся семья наша никогда супротив совести не шла. А он сызмальства лукав и злобен был… Что бы сказали ныне батька-покойник, матушка-покойница?.."
И все пуще брала молодца досада и злоба на брата-переметчика…
— Братцы, звенит что-то! — шепнул Суета.
Из оврага донеслось чуть слышное бряцанье железа, но сейчас же заглушилось порывом осеннего ветра. Потом зашумело что-то меж кустов, а там совсем уж ясно прозвенела сабля, ударившись, должно быть, о другую саблю…
Без приказа, не произнеся ни слова, изготовились молодцы. Навели они на вход пищали, дыхание затаили. Вот послышалась осторожная поступь многих людей, иноземная речь… Зашуршали отваливаемые невидимыми руками камни, скрывавшие дверь. Звякнули засовы: щупали враги, где их сломать легче… Вот, жалобно скрипнув, отворилась от толчка дверь. Примолкли ляхи, верно, дивясь, что не заперт тайный ход. Но не слыша ничего, не видя никого, осмелели они — и двинулись плотной гурьбой в проход…
— Пали! — загремел Ананий.
Глухо и зловеще, заглушаемые тесными земляными стенами, грянули разом пищальные выстрелы: мгновенно осветился красным пламенем подземный ход…
Ни одна пуля мимо не прошла, ни один из передовых ляхов жив не остался… Вопль ужаса и боли огласил подземелье… Оцепенели нехристи, сжавшись в кучу…
А молодцы обительские врукопашную ударили. Не видя, откуда удары сыплются и сколько противников, закричали, застонали лазутчики и, давя друг друга, кинулись вспять. Перерубив многих, удальцы монастырские в погоню бросились. У всех один крик вырвался:
— За святого Сергия!
— Гляньте, ребята! Светло, словно днем… Ляхов-то сколько у стен! — завопил на бегу Суета.
И впрямь, вся обитель — от горящих на стенах костров, от зажженных тур и пристенных частоколов — была ясно видна, слепила светом. Неумолкаемо гремели из-за зубцов пушки, и метко впивались ядра в польские ряды, озаренные пламенем пожара.
Не удалось осаждающим нежданно-негаданно накрыть ночью обитель. Не пришлось и особому их отряду проползти в монастырь тайным ходом, указанным'изменником… На этот раз не бросались ляхи на стены, видели, что ждали их, что по-прежнему горячо примут. Расстроенные полки отступать сей же час начали.
Ананий с товарищами жаркую сечу затеял; гнали они нещадно вражескую дружину, и искал все старший Селевин, не видать ли где его брата Оськи.
Разрубая своим тяжелым бердышом шлемы вместе с головами ляшскими, валя врагов рядами по обе стороны, рвался он вперед.
— Оська! — вдруг грозно рявкнул он, и заглушил на миг этот громовой окрик гул битвы. — Оська, вернись, покайся! Не губи душу, Оська!
Но младший Селевин, несясь впереди всех к польскому стану, как испуганный заяц, и не оглянулся… Схватился Ананий за пищаль, что за спиной на ремне висела, нацелился в бегущего брата, да вдруг остановился, подумал — и не выпалил.
— Суди его Бог!
Дальше гнаться нельзя уже было; к стану подбегали ляхи. Весело толкуя, возвратились молодцы в обитель, все целые, невредимые.
Светлым звоном встретили храбрецов колокола.
Черный день
Несколько дней отдыхали ляхи от ночного приступа, пересчитывали убитых да взятых в плен, утешались пирами, веселыми плясками и песнями.
Обительские воины тоже передохнули: пальба из вражьих станов не сильна была. На дворе стали уже крепкие холода завертывать, и снежок перепадал, и мороз сердито по ночам потрескивал. Меду да браги в обители вдоволь запасено было, и не жалели их иноки для защитников своих…
В ноябрьское, темное и холодное утро друзья-товарищи: двое Селевиных да Меркурий-пушкарь, да Тимофей Суета, сменив ночную стражу на Водяной башне, вели меж собою тихую беседу.
— Был у воеводы, Ананий? — спросил Меркурий, все поглядывая на супротивные туры, где находилась злая Трещера.
— Сегодня не улучил времени, да, чай, князь, как обычно, утречком на башни придет… Заботлив он у нас, дай ему Бог здоровья…
— Посмелей Голохвастова-то будет! — вставил Суета.
— Ну, уж ты, Тимошка, всегда не в пору молвишь. У князя от Бога удали да уменья больше, а Голохвастов тоже присягу верно блюдет…
— Не такова молва идет, — не унимался Суета.
— Полно тебе! — строже сказал Ананий. — Святое дело вершим, обитель обороняем — а ты пересуды непристойные заводишь… Чего человека порочишь?..
— Да я ничего. Люди говорили…
— Братцы! — перебил Суету Меркурий, указывая рукой на туры, которые все ясней виднелись к рассвету. — Придвинули вражьи дети окопы-то к стенам поближе. Да еще вдвое выше сделали! Глядите, Трещера-то совсем сюда смотрит! Лихо же они палить начнут!
— Надо воеводу оповестить! — и Данила сбежал вниз.
— Чай, всю темну ноченьку работали, — говорил Айгустов, глядя на туры. — Жутко теперь нашей башне будет: и так уж избита она, изрезана той пушкой злой… Эх, кабы мой сон сбылся! — прибавил, вздохнув, пушкарь.
— Что за сон?..
Весело улыбнулся Айгустов…
— Привиделось мне, братцы, будто стою я на этой башне самой и свою пушку навожу. А ночь-то темным-темнешенька, ни зги не видать; снежок такой сухой с ветром налетает, лицо режет. И один будто я одинешенек на всей башне, и будто надо мне угодить ядром в жерло самое Трещере… А буде не угожу в нее — конец придет и нам всем, и обители… Снаряжаю я пушку, братцы, а сам дрожмя дрожу: а ну, как мимо дам?! Сколько раз ведь я метил в нее, ненасытную, а угодить не пришлось… И надумал я перед выстрелом молитву прочесть… Откуда-то и слова такие взялись, теплые да слезные, каких ране и не знал, да и теперь запамятовал… Помолился — хочу выпалить, а меня кто- то так властно за руку взял. Гляжу — старец, инок неведомый… "Вот куда наметь ядро, молодец", — говорит он мне и перстом указывает. Послушался я старца — и как выпалил, осветились вражьи туры красным полымем… Вижу, сплющилось жерло у горластой Трещеры… А старца-то уж возле меня нету. Тут и очнулся я, и на душе радость великую почуял…