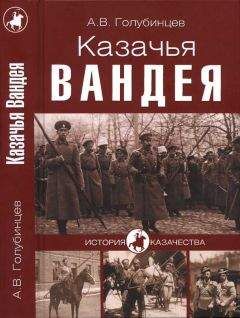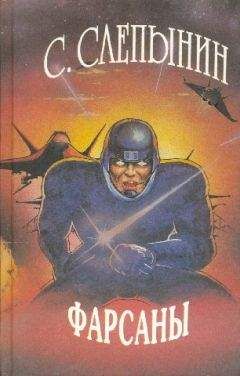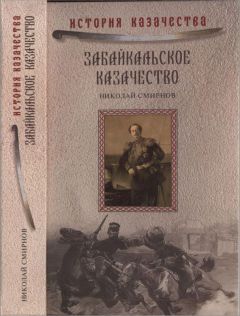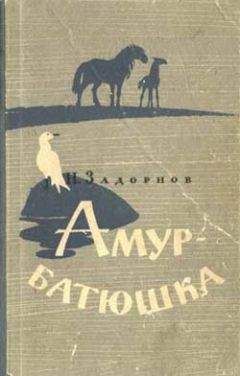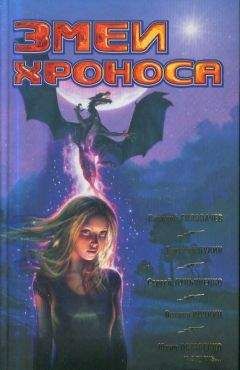Григорий Хохлов - Доля казачья
Но тут Покто снова заговорил, обращаясь к уже бывшему монаху. Не захотел Покто нового имени принять при крещении, сказал, что быть Покто ему удобней. И от своего геройского имени он никогда не откажется. Его никто и не заставлял это делать. Покто, так Покто!
— Я назвал тебя росомахой, и не жалею об этом! Но ты сейчас другим стал. Я по твоему лицу вижу, что ты правду говоришь, сейчас ты на хорошую тропу вышел. А раньше я хотел посадить тебя в лодку, как у нас гольдов с плохими людьми делается.
Вывезти тебя на середину Амура, там, где река Сунгари свои воды с Амуром мешает, там у них битва не на шутку идёт. И оставить тебя там одного и без весел. В этом кромешном аду на суд этих двух страшных стихий. Их ты никак не купишь, у них своя, правда — неподкупная человеком. И ты должен предстать пред ними во всём своём ничтожестве. И если выживешь ты, то ты имеешь право жить дальше. А если? — Не договорил Покто свою речь, но все его поняли. — Конечно, там была смерть. Но сейчас ты имеешь право жить, как и все мы здесь стоящие. Живи Баха, то есть Иван Чёрный! Живи среди нас и приноси людям радость.
— Спасибо! — поблагодарил всех новоиспечённый Иван. — Но я всё же рад буду проверить себя, и правильность своего выбранного решения. Пусть стихия меня осудит, честнее такого суда нет на всём белом свете. Если выживу я в той стихии, то прав я был в своём выборе своей новой дороге. А если нет, то всё равно я умру с Божьим именем на устах. Я своего решения не меню.
Посмотрел, он грустно на окруживших его людей, и добавил.
— Все видят, как красив лотос, он также и умирает красивым, и все любуются им. Но никто не знает, как он при этом несчастен.
Непонятная нам жизнь! И многого мы не замечаем! Но всё это до поры, до времени — обязательно, как рассвет наступит прозрение.
Никто из казаков, толком ничего не понял, только казачки украдкой прислонили кончики своих платков к глазам. Их сердце, никогда не обманывало — и тут быть беде! Где-то рядом она!
А бывший монах обратился к отцу Никодиму.
— Можно, Отец Никодим, если я жив останусь, тебя старшим братом звать? Клянусь, что твоего имени я никогда не опозорю.
— Ну, если не опозоришь, то сочту это за честь. Во славу доброго дела я разрешаю тебе это сделать. Твори добро везде, где ты будешь. Аминь! И моим добрым именем — твори! Пусть поможет оно тебе в трудную минуту.
Перекрестил казачий священник своего названного брата тяжёлым медным крестом, дал его поцеловать. И напутствовал своего нового брата:
— С Богом!
Пошёл Иван Черный к оморочке, что у берега стояла. Столкнул её на воду, и с силой погнал её к середине Амура, на стрежень двух течений, на встречу со своим судом. Он имел на то право, иначе и жить ему не стоило.
На середине Амура он что-то крикнул своё, сердечное и гортанное, но до жути щемящее душу на только ему одному известном наречии. И с силой швырнул теперь уже не нужное весло за борт своей тонкой и утлой лодочки.
Может, и он вспомнил маму свою, которую никогда в своей жизни не видел. И спросил её, для чего она родила его, такого несчастного, и никому не угодного. И тем ещё раз бросил вызов своей судьбе. Снова пошёл ей наперекор, как и тогда при своём рождении.
А затем смирился Иван, осенил себя крестным знаменем и сел на дно лодки. Теперь он был готов ко всему. Глаза его от усталости прикрылись, и он как бы отрешился от всего происходящего с ним.
Он очень устал, и сразу почувствовал это. Пусть вершится грозный суд, он ему никак не препятствует, ни одним своим движением. И даже ходом мыслей своих.
Унесло ныряющую в яростных волнах лодку за поворот реки, но никто из казаков не тронулся с места. Все были заинтригованы происходящим зрелищем. И никто не посмел препятствовать решению Бахи, ведь, прежде всего, он сам себе судья, и вину свою в полной мере только он сам знает.
Но всё равно суд не оставил никого равнодушным, и русские, и гольды, все жалели монаха. Многие женщины уже открыто плакали, и не скрывали своих слёз.
Мужики крестились, и было отчётливо слышно, как кто-то вслух сказал:
— Не приведи Господь, хоть раз такую проверку испытать на себе. Душа в пятки уходит!
Отец Никодим, осенил крестным знаменем, уже пустую реку.
— Держись мой брат, ты на верной дороге, выживи!
Прошло время, и среди гольдов стали проскальзывать слухи, что монаха видели где-то в низовьях Амура. Живёт он среди местных народов и крестит всех желающих необычным каменным крестом, явно собственного изготовления. Когда ему указывали на то, что крест грубо огранён и неудобен в руке то он отвечал всем желающим:
— Мне есть что помнить всю свою оставшуюся жизнь, и есть, о чем ни на минуту я не могу забыть — грешен я, хотя и прощён Богом! И когда я беру в руку свою этот неотесанный крест, то себя я всегда осуждаю, а к людям отношусь с наибольшим уважением. Потому, что через свою боль я к ним уважение питаю! И сам, до крови проникаюсь благодарностью к милости Божьей. О чём и говорю людям! И они явно видят это единение духа.
И раны мои на руке сразу же заживают, без всякого следа исчезают. И люди восхищаются силой великой Всевышнего, — не это ли счастье!
Качает головой отец Никодим:
— Да-а-а! Дела! Ну и братец у меня объявился. Однако силён бродяга, силён духом своим!
Через десять лет в казачью станицу, в сопровождении гольдов, приходит смуглый, что головёшка, мальчик лет девяти, и ищет он отца Никодима. В руках у мальчишки тяжелый и неотёсанный каменный крест.
— Тебе это!
Что-то знакомое уже промелькнуло в лице мальчугана. И как молнией, ударило батюшку озарение — да это же глаза Бахи! И крест по описаниям тот, про который гольды слагали легенды. От природы его рождение.
Так оно и было на самом деле. И мальчик был сыном Бахи, и крест его.
Жив, остался бывший монах, и со своими проповедями кочевал он от одного стойбища к другому. Везде его принимали с уважением, и слушали очень внимательно. Его душевное обращение к народу сразу же покоряло даже, казалось бы, каменные сердца. Не гнушался он никакой работы и делал её с великой радостью, и скоро стал везде своим человеком. Одна у него была странность — при нём всегда был свёрток, и тот всегда, как и крест, следовал за своим хозяином. Когда его спрашивали, что там, то он ничего не скрывал, рассказывал им. И если очень просили люди, то мог и показать клинок очень тонкой работы. Тогда возглас восхищения вырывался из уст аборигенов Амура:
— О-о-о!
Клинок, такой замечательной работы и качества стали, редко приходилось им видеть, а тем более держать в своих руках. А охотники знали настоящую цену оружию.
И когда его спрашивали, почему он таскает его в свёртке, то тот отвечал, что не пришло ещё время его доставать оттуда! И что сам он считает себя казаком, и если надо будет, то всегда готов применить этот клинок в бою. За веру свою! Но тренировкам батюшка уделял необходимое время, используя при этом не клинок, а тяжелую дубинку. Зачем?
Местные народы никогда и ни с кем не воевали, и дальше его уже ни о чём не спрашивали. Табу! Хотя и так всё было ясно, что-то не договаривал батюшка.
Говорил ещё, что зовут его Иван Чёрный, и что крестил его отец Никодим! Теперь он его названный брат. Это имя у местных народов стало магическим. Тут не нужен был документ, это была безоговорочная рекомендация к хорошим действиям, к помощи. И больше Ивана уже ни о чём не спрашивали. Свой он, такой человек, плохим быть не может! И всячески помогали ему в любом деле.
Скоро Иван выбрал себе в жёны одну местную девушку, и в таёжной глуши уединился с ней. Когда у них родился сын, его сразу же назвали Никодимом, в честь своего названного брата отца Никодима.
А дальше, уже всей своей маленькой семьёй, он странствовал по просторам Приамурья, лишь на зимовку останавливаясь в стойбищах.
Слух о необычном проповеднике через торговцев дошёл и до маньчжурского правителя. Накопилась у торговцев обид на этого неподкупного проповедника.
Не позволял Иван грабить местный народ, так как грамоты сам был великой, не чета торговцам. И силой обладал недюжинной, мог и с медведем бороться, если попадал на их национальный праздник.
Странный это был казак и не казак, и проповедник не проповедник. И виду он был странного, не похожего на местные народы — лицом и телом не вышел. Чёрен Иван, даже среди аборигенов заметен.
И как им было предписано информировать, торговцам, обо всех подозрительных людях полицию, то так они и сделали. И пошло всё дальше своим чередом.
Вызвал правитель к себе помощника и напрямую спросил его — не мог ли это быть один из тех двух монахов, что когда-то провалили его секретную миссию об упреждении, распространения христианства на берегах Амура.
Не знал тот что ответить. Вряд ли смогли бы пойти его монахи-убийцы на такое вероломство — принять чужую веру, а тем более проповедовать её. Для них христианство самое большое зло во всей вселенной. Смерть для убийц была намного проще предательства: тут сразу же открывалась дорога в рай небесный. Проверить все факты было необходимо. И опять он посылает двух монахов-убийц в далёкий поход. Тут уже был задет престиж целой школы, и всей системы разведки в целом. Где предательство было самым постыдным делом. А тем более, со специальным воспитанием в монастыре, да ещё с самого рождения. Там такого быть не могло — это точно!