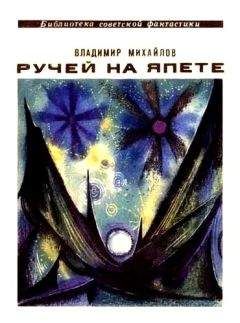Владимир Владимиров - Повесть о школяре Иве
Один за другим вынимал рыцарь эти предметы. Из свернутого в трубку пергамента он выбрал два листа, один, пустой, отложил в сторону, другой разгладил рукой и наклонился над ним, рассматривая затейливый чертеж — два круга один в другом с общим центром. Между ними — двенадцать делений, обозначенных знаками Зодиака. В этих делениях — изображения планет. Это был гороскоп рыцаря Ожье, составленный придворным астрологом герцога Фландрского, ученейшим монахом Маврицием. По расположению небесных светил в день и час рождения рыцаря Ожье монах предсказал его судьбу. Рыцарь плохо разбирался в запутанных объяснениях ученого. Он понял только одно: что ему грозит смерть от меча врага, от чего спасти может раскаяние в грехах и ниспосланная за это благодать божья. И вот теперь, когда он решил вызвать злейшего из врагов своих на поединок, настало время удалиться в монастырь и предаться раскаянию, добиться освященной церковью благодати слез[19]. Но и сейчас, прежде чем написать вызов на поединок, он должен испросить благословения. И, задвинув засов двери (молитва должна быть тайной), он распростерся на полу и вознес молитву к святой деве Марии. Клошэт, недовольная, что рыцарь, вставая, разбудил ее, оскалила зубы и зарычала. За это он сбросил ее со скамьи, и она, дрожа всем тельцем, забилась под кровать.
— О, нежная дама небесная! — шептал рыцарь, прижав лицо к холодному камню пола. — Соблаговолите помочь мне в предпринимаемом мною подвиге чести. Клянусь господом богом, сотворившим Еву и Адама, всегда стоять за веру и церковь, за защиту невинно угнетенных, смирением и молитвой искупить грехи свои во славу всемогущего бога, давшего законы!
И, встав, раскрытой ладонью осенил лицо крестным знамением. Потом, приоткрыв дверь, хлопнул в ладоши. Тотчас появился экюйе.
— Возьми это и неси за мной, — сказал он, передавая экюйе чернильницу, калам, чистый лист пергамента и восковую палочку, а перстень с печатью надел на левую руку.
Экюйе зажег факел и, высоко подняв его, шел за бароном вниз по крутой лестнице. Спустились они на один ярус и вошли в небольшую комнату с узким окном и потемневшими от времени широкими деревянными балками потолка.
— Садись к столу, пиши!
У стены стоял стол. Письменную принадлежность экюйе положил на стол, а горящий факел водрузил в железное гнездо, прикрепленное на стене у окна. Барон сел к столу, приказал позвать маршала и пришлого школяра с нижнего двора.
За окном чернела ночь.
Пламя факела, потрескивая, чуть колебалось, наполняя комнату запахом смолы и заставляя тень от стола и фигуры рыцаря Ожье медленно ползти, то вытягиваясь во всю длину каменного пола, то снова сжимаясь в бесформенное темное пятно. Рыцарь следил взглядом за движением тени, и показалась она ему похожей на высокий гроб, покрытый длинным покрывалом. Он откинулся к стене, закрыл глаза и, положив вытянутые руки на стол, крепко сжал кулаки. На указательном пальце правой руки рубин в золотом перстне Агнессы д’Орбильи поблескивал кровавой каплей.
Ив и рыцарь Рамбер пришли почти одновременно. Барон отпустил экюйе, приведшего Ива, и, указав маршалу на скамью, сам стал молча ходить взад и вперед по ком* нате.
Внезапный вызов к барону в такой поздний час испугал Ива, успокоившегося было после разговора со звонарем. Волнение усилилось еще больше, когда экюйе повел его по темной лестнице главной башни. И теперь в этой полутемной комнате, оставленный с глазу на глаз с бароном и маршалом в гнетущем молчании, Ив растерянно переступал о ноги на ногу. Чего хотят от него эти два человека, от злой воли которых зависит судьба его, бессильного и беззащитного? Он слышал, как часто колотится его сердце и кан трещит факел и роняет на пол угольки.
Наконец барон подошел к нему и, толкнув в плечо, сказал:
— Садись к столу, пиши. Вот, — и ткнул иальцем в лист пергамента.
Рука Ива дрожала, когда он взял калам. Деревенский священник учил Ива писать легким, коротким гусиным пером с концом, разделенным надрезом, а калам был длинный и без надреза. Ив робко стал усаживаться, перекладывал с места на место пергамент, поворачивал его то в одну, то в другую сторону, прилаживался.
Барон топнул ногой:
— Долго я буду тебя ждать, паршивец?
Маршал, сидевший рядом, прошипел:
— Довольно ковыряться!
— Слушай и пиши, — сказал барон и, продолжая ходить, стал диктовать:
— «От рыцаря Ожье де ла Тура рыцарю Реио дю Крюзье послание.
Я, рыцарь Ожье де ла Тур барон де Понфор, по милости и с помощью бога лучезарного раскрыв козни твои, подлым путем уготованные против меня тобою, сыном потаскухи и впрямь черным душою и помыслами, клянусь богом грозящим проучить тебя в честном поединке. Ни бог, ни человек, ни все святые не смогут оберечь твою голову. От моего меча она соскочит с туловища. Я отрублю ее тебе под подбородок и растопчу ногами, а копье свое я воткну в твою кабанью дичину».
Маршал восторженно прогнусавил:
— Я так и вижу, как вы мощным ударом…
— Молчи, паскудный! Только путаешь меня! — прервал его барон.
Маршал поднял руки и угодливо зашептал:
— Молчу, молчу.
— Пиши, да поторапливайся, — нетерпеливо сказал барон Иву и опять начал диктовать:
— «Клянусь святым телом святого Гонория, твои разбойничьи помыслы о захвате моих земель и деревень сгниют вместе с твоим вонючим телом…»
От того, что колебался свет факела и рябило в глазах, от нетерпеливых понуканий барона, от сопения маршала, который то заглядывал в написанное, обдавая смрадным дыханием, то гнусавил, подсказывая и сбивая, у Ива стучало в висках, ему было душно, правая рука ныла от напряжения и дрожала. А барон все ходил и ходил, все диктовал и диктовал, и казалось, что пытке этой не будет конца и не хватит сил вытерпеть ее.
Барон говорил своему врагу, что предлагает ему сообщить о принятии вызова в такой‑то срок, при неисполнении чего будет считать рыцаря дю Крюзье трусом и объявит ему войну. Что предлагает встретиться в такой‑то день в окрестностях города Дурдан–на–Орже, на перекрестке дорог из Парижа в Шартр и из Дурдана в Этамп, там, где развалины древнеримского храма. И что держит запертым в тюрьме замка Понфор в качестве заложника виллана — подданного рыцаря Рено.
Наконец барон остановился у стола и ткнул пальцев в лист.
— Здесь, пониже, пиши, — сказал он. — «В лето от воплощения Христова тысяча сто девятое, шестого месяца в замке Понфор». Все.
Он взял лист и восковую палочку, подошел к факелу и, растопив на огне воск, капнул им на пергамент. Ив отошел в сторону. Барон вернулся к столу и приложил к воску печать. Придавливая ее ладонью, он вглядывался в написанное.
— Смотри, — сказал он Иву, насупив брови, — вот здесь плохо, подправь.
Ив подошел. Барон показывал на слова «воплощения Христова», написанные бледнее других.
— Скорей, — сказал барон.
— Поторапливайся! — прогнусавил маршал.
Ив не посмел сесть. Стоя писать было еще труднее. Рука дрожала еще больше. И случилось так, что Ив слишком глубоко окунул в чернила калам и капля их скатилась на лист, залив слово «Христова».
Ив обмер.
В то же самое мгновение рука барона с размаху ударила его по щеке. Он отлетел в сторону и, поскользнувшись на гладком камне пола, упал. Он слышал, как барон позвал экюйе. Кто‑то схватил факел, отчего сразу стало темней. Кто‑то поднял Ива, вытолкнул в дверь и повел вниз по лестнице.
Во дворе, в густых сумерках, еле различимы были очертания стены. Ива свели с подъезда и остановили у двери в подвал. Маршал долго возился с висячим замком, ругаясь. В это время к нему подошел кто‑то, и был слышен тихий разговор и чей‑то отвратительный смех.
— Веди! — крикнул маршал.
Человек, ведший Ива, ткнул его в спину.
Когда Ив, нащупывая ногой ступени, стал спускаться в подвал, он снова услыхал гнусавый голос Клеща, говорившего тому, во дворе:
— Ключ отнесешь сенешалу, а я пойду к барону.
Когда человек, приведший Ива, поднялся обратно по лестнице и железная дверь закрылась за ним, потом глухо стукнул наружный засов, когда, ощупывая руками холодные стены, Ив наткнулся на скамью и, сев на нее, поднял голову, глаза его, постепенно привыкнув к темноте, различили высоко еле видимый смутный свет в продолговатом окне.
Вспоминая, как его вели сюда, Ив понял, что это тот самый подвал, окно которого он видел днем, когда стоял у подъезда главной башни. Значит, под ним та жуткая тюрьма, о которой рассказывал звонарь. И, может быть, его теперь бросят в нее? А завтра Эрменегильда позовет его, а ей скажут: «Школяра нет, и никто не знает, где он». Клещ наврет ей что‑нибудь. Фромон? Он догадается, но что может сделать? Он такой же подневольный раб, как и все в этом замке.
«За что, за что? — шептал в отчаянии Ив. — За чернильную каплю!»