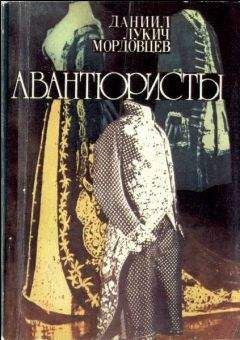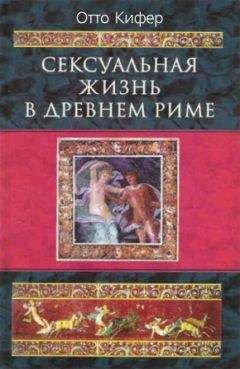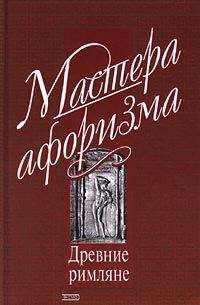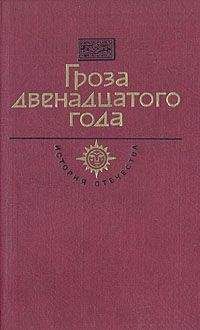Даниил Мордовцев - Царь Петр и правительница Софья
— Какую же, мейн герр? — спросил Монс, сильно заинтересованный.
— А козырного туза.
— О, нет, герр Лефорт! Нет такой карты, которая бы убила козырного туза.
— Есть! Эта карта — стрельцы.
Тот, которого называли генералом, молчал. Это был знаменитый служака Патрик Гордон, который несколько лет тому назад отстаивал Чигирин, когда его осаждали турки с Юраскою Хмельницким, а Ромодановский и гетман Самойлович медлили подать ему помощь. Он внимательно слушал Лефорта, но при последних словах его покачал головой.
— Не думаю, чтобы даже стрельцы решились на это, — сказал он, — я давно живу в России, знаю русский народ, достаточно изучил и стрельцов: никто из русских не поднимет руку на царя.
— Не говорите, генерал, — возразил Лефорт, — ведь вот же теперь стрельцы утверждают, что царь Федор отравлен придворными. Значит, в возможность отравы царя русскими же они верят.
— Говорят, что подозревают нашего друга, милого доктора Даниэля фон Гадена, — заметил хозяин.
— Да, это скверно, очень скверно, — подтвердил Гордон, — это «немцем» пахнет.
— О! Спаси Бог и помилуй.
— В этой стране все возможно, — продолжал Лефорт, — пустят какой-нибудь нелепый слух, что колокола сами будто бы звонили или Иверская плакала, ну и мятеж: и огненного мальчика не пощадят.
— Это все так, — согласился Гордон, — но что бы впредь не было, мы, немцы, должны смотреть в оба, и если даже возьмет верх царевна, мы, повинуясь ей, должны добиваться одного: привлечь к себе огненного мальчика. Уж он и теперь любит потихоньку от матери бегать сюда со своим дядькой. Ему, кажется, Кукуй наш нравится больше скучной Москвы. Еще недавно, пред самой смертью брата своего, он вырвался из Кремля в нашу слободу и всю аптеку у господина фон Гадена вверх дном поставил: покажи ему, что это, расскажи, как это делается, против чего это! Фон Гаден просто с ног с ним сбился. А то как-то забрался ко мне в конюшню, лошадей смотреть, потом велел вести себя к часовому мастеру; зашли в кузницу, и он непременно хотел сам себе стрелу выковать. А когда Голицын сказал ему, что пора домой, он раскапризничался: говорит, что во дворце скучно, что мать постоянно плачет и жалуется, что придворные все такие дураки, и что в Кукуе ему весело, а что русские ничего не умеют ему показать…
— О! Это удивительный мальчик! Das ist ein Phenomen! — глубокомысленно заметил хозяин.
— Да, это действительно феномен, и мы должны беречь его как для пользы государства, так и для нашей собственной пользы.
— О, да! Мы это тайно должны делать.
— Конечно, тайно.
В это время в комнату вошли две девочки в белых платьицах, те самые девочки, миловидные головки которых мы заметили в окне. Они были высокенькие и стройненькие. Словно по команде, они сделали книксен.
— А! Фрейлен Модеста! Фрейлен Иоганна! Мои невесты! — с улыбкой встретил их Лефорт.
— Гутен абенд! — присели девочки.
— Вы что, майне киндер? — ласково спросил Монс.
— Мама прислала нас прощаться, спать пора, — сказала старшая.
— Ах, папа! Еще рано, — надула губки младшая, — я совсем не хочу спать.
Отец засмеялся, с любовью трепля девочку за плечо.
— У, огонь! — ласково говорил он. — Вот и девочка моя — огненная.
— А разве есть и огненный мальчик? — спросила она.
— Есть, майн кинд.
— Какой же он, папа?
— Огненный.
— Ну, уж! Ты всегда, — надулась девочка, — я говорю, кто он?
— Не скажу, майн кинд: узнаешь, спать не будешь.
— Нет, папа, скажи: я буду думать о нем и усну.
— Ах, Анхен, — вмешалась старшая сестра, — я знаю, о ком говорит папа. О нем, о маленьком кениг Петер.
— Фуй! — брезгливо сказала Анхен.
— Вот как! — засмеялся Лефорт.
— Какова наша кенигин! — улыбнулся добродушно и Гордон. — Почему же он тебе не нравится?
— О! Он барбар московит, — презрительно передернула плечом бойкая Анхен. — Он говорит, что терпеть не может девочек.
Все засмеялись. Но в это время послышался осторожный стук в крылечную дверь. И хозяин, и гости тревожно переглянулись. Кому бы это быть? Стук повторился настойчивее. Хозяин тихонько подошел к окну и глянул вниз.
— Ба! Да это наш друг фон Гаден. Что бы это значило? Надо пойти отворить ему… А вы, майне киндер, спать, спать… шляфен зи воль…
Девочки присели и убежали к себе наверх.
Через минуту Монс ввел нового гостя. Это был мужчина лет шестидесяти, седой, с большою лысиной. Лицо его изобличало сильное волнение или испуг. Войдя в комнату, он в изнеможении опустился на стул.
— Что с вами, мой друг? — с участием спросил хозяин.
— О, я пропал! — слабым голосом отвечал пришедший и с отчаянием схватился за голову.
— Что же случилось? — спросил Гордон, подходя к нему.
— Меня ищут стрельцы… хотят убить… говорят, будто я отравил царя..
— Но может быть, это только болтают?
— Нет… вот… сами прочтите…
Дрожащею рукою он вынул из кармана измятый листок бумаги и подал Гордону.
— Вот тут все… одних уж убили…
Гордон расправил листок и стал читать:
— Список царским злодеям… Бояре, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, князь Григорий Григорьевич Ромодановский…
— Этого уж убили с сыном Андреем, — пояснил фон Гаден глухим голосом.
— Князь Михаил Юрьевич Долгорукий, — продолжал Гордон.
— И этот убит, и старик отец убит.
— Что за варвары! — невольно вырвалось у Лефорта.
— Читайте, генерал, — слабо вздохнул фон Гаден.
— Кирилл Полуехтович Нарышкин, Артамон Сергеевич Матвеев…
— Изрублен в куски, — снова пояснил Гаден.
— Иван Максимович Языков, Иван Кириллович Нарышкин, постельничий Алексей Лихачев, казначей Михайло Лихачев, чашник Семен Языков, думные дьяки, Ларион Иванов…
— Убит.
— Дохтур Данилка немчин…
— Это я, — глухо сказал пришедший.
— Но тут еще много, — заметил Гордон, пробегая глазами список.
— Да много что-то… Только что мне делать?
Гордон задумался. Все прочие молчали. Все ясно видели, что кровавая драма только начинается. А какой будет ее последний акт, этого никто не мог сказать. Пока только один «немчин» попал в список обреченных на смерть. А если зверь разлакомится первой кровью? Если после Кремля пойдут на Кукуй? У Гордона немного немецких рейтаров… Но, что загадывать об этом! Надо во что бы то ни стало спасти обреченного уже на заклание… Гордон выпрямился.
— Вам здесь оставаться нельзя, — сказал он, подходя к фон Гадену и кладя руку ему на плечо, — по крайней мере эти дни, пока звери не напьются крови… Похмелье скоро настанет. Вам надо спасаться вплоть до конца этого похмелья: надо уйти совсем из слободки и из Москвы.
— Но как уйти, вот вопрос! — со стоном спросил несчастный.
— Надо переодеться… Надо нарядиться русским, мужиком, нищим, надеть лапти.
— Скорее одеться странником, монахом… Они, эти варвары, уважают странников, — заметил Лефорт.
— И посох в руки, и котомку, — подсказал Монс.
В это время среди ночной тишины резко выкрикнул и затянул сильный мужской голос:
Наварю я пива пьяного,
Накурю вина зеленого…
Слышно было, что поет пьяный. Гости Монса переглянулись.
— Это поет стрелец, — сказал Гордон, — я эту песню знаю… Плохой знак…
— А что? — спросил тревожно Монс.
— Пить начали, теперь им удержу не будет.
Пьяный голос между тем пел, все более и более приближаясь:
Накурю вина зеленого,
Напою я мужа — дьявола,
Облоку его соломою,
Положу-то посередь двора,
Да зажгу его лучиною…
— А! Меня, стерва, лучиною! — сам же себе отвечал пьяный голос. — Я те покажу лучиною… меня-то соломою! Ах, ты, паскуда! А! Что выдумала…
— О, майн Готт, майн Готт! — отчаянно всплеснул руками фон Гаден. — Боже! Что за варварский народ… И зачем только я сюда приехал!..
IX. Облава на бояр
Утром следующего дня дворец московских царей представлял печальное зрелище. На половине юного царя и его матери слышались стенание и плачь. Наталья Кирилловна в тоске и ужасе ломала руки и без слов падала перед киотом, в котором всю ночь теплились лампады, освещая темные молчаливые лики женщин, в глубокой скорби стоящих у креста, на кресте тихо угасающий лик божественного страдальца. Она, царица Наталья, мучительно, хотя греховно, но невольно приравнивала свою скорбь к скорби этой женщины, стоящей у креста… А тот, за кого она трепетала, ходил хмурый и бледный из одного покоя в другой, останавливаясь перед окнами, открывавшими вид на постылый Кремль, и снова торопливо шагал из угла в угол, словно бы его душили эти стены, эта клетка. Казалось, он возмужал за один день, вырос, очерствел. Когда из дальних покоев царевен, сестер и теток, доносился плач, он только нервно хмурил брови.