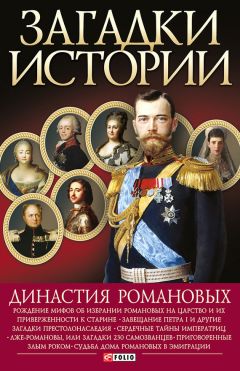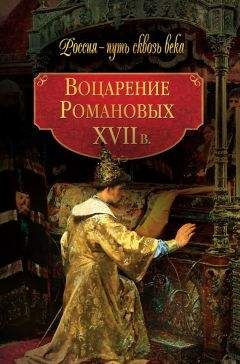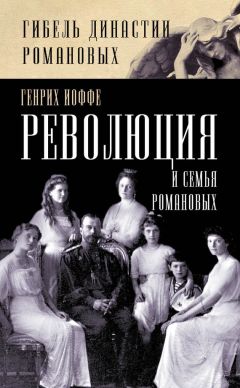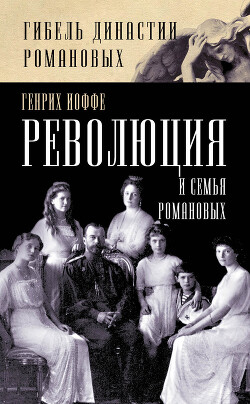Михаил Федорович - Соловьев Всеволод Сергеевич
XXVIII
Долго не могла заснуть в эту ночь Настасья Максимовна, возмущенная, но в то же время и обрадованная, хотя и бессознательно, сделанным ею открытием.
Деятельная и энергичная по своей природе, она иногда уж чересчур скучала, просто тоска на нее находила оттого, что все вокруг нее шло тихо да гладко. Иной раз с тоски да скуки сама она невольно начинала придумывать какой-нибудь беспорядок, какого в действительности вовсе не было, начинала подозревать вещи, каких совсем не существовало, придиралась к подведомственным ей женщинам, доводя их этими придирками просто до отчаяния.
А тут вдруг такое дело!
Надолго теперь его хватит, наполнит оно однообразные дни, однообразные вечера, будет о чем потолковать, судить, рядить и волноваться. Настасья Максимовна уже мечтала о том, как она будет добираться до виновников, какие хитрости пустит в ход.
Среди этих мечтаний, уже далеко за полночь, она наконец заснула.
Не спала и Маша. Прошлую ночь в чулане слишком хорошо она выспалась, а теперь разве можно заснуть? Она не напала на след воровства, не мечтала об интересном теремном следствии, не целовалась она с королевичем в темном коридоре, но ведь и ее задела своим крылом блаженная минута любви, остановившаяся над Вольдемаром и Ириной. Она пережила вместе с ними эту минуту, не отделяла себя от них. Она тоже любила, точно так же, как и ее царевна-подруга, только еще не понимала этого.
Долго— долго неподвижно лежала она с широко раскрытыми, устремленными в окружавший ее мрак глазами, и ей чудилось, будто над нею звучит какая-то сладкая музыка. В ней не было ни мыслей, ни представлений, ни определенных чувств, но вся она отдавалась неуловимому сладостному ощущению любви, дышавшей всюду, со всех сторон, всюду проникавшей.
Наконец, она несколько пришла в себя. Раздававшаяся над нею и в ней музыка затихла.
Она прислушалась, накинула душегрейку и наизусть знакомой дорогой, в сопровождении снова явившихся приспешников-бесенят, пронеслась в опочивальню царевны.
В соседних покойчиках из-под высоких перин раздается все тот же мерный храп. В опочивальне царевны тоже слышится что-то. Маша приостановилась в дверях на мгновение и поняла, что это слышится: это царевна плачет, неудержимо рыдает. Кинулась к ней Маша, обняла, целует, спрашивает:
— Что с тобой, золотая царевна? С чего ты это так плачешь? Зачем? Зачем? Вытри слезки, чего же плакать!
И сама Маша удивляется и никак не может понять, чего тут действительно плакать, ведь вот же ей не плакать, а смеяться теперь, плясать хочется.
Кое— как успокоила она своими ласками, своим нежным шепотом царевну и опять спрашивает: «Чего же ты плачешь?»
— Как же мне не плакать, — всхлипывая и снова готовая разрыдаться, отвечает Ирина. — Пойми, Машуня, ведь что мы с тобой наделали!
— Как что? Ничего! Все ладно, хорошо вышло, так вышло, как было задумано. Что такое, царевна? — изумлялась Маша.
— Да ты что думаешь, Машуня? Ты думаешь, со стыда я плачу, что он целовал-то меня, что я его целовала, эх, о стыде, о грехе я забыла, где уж тут о стыде да о грехе думать! Пусть душа прямо в ад идет, пусть дьяволы всю вечность меня терзают, жарят на раскаленных угольях, не страшусь я стыда, не боюсь я греха, не о том думаю, не о том плачу я!… Что мы наделали! Где он теперь, мой голубчик? Провела ты его, как он вышел? Как выбрался? Да и это не то!… Вот кабы не видала я его нынче, и ничего, что никогда бы не увидала… а теперь и не могу уж не видать, и плачу, видеть его хочу скорее!
— Вот как! — тихонько засмеялась Маша. — Ну что же? Ну и опять его приведем сюда.
— Ведь подумай, Машуня, ни слова, ни одного малого словечка мы не сказали друг другу; подумай, Машуня, ведь только взглянула я на него, а ты лампадку затушила, не дала наглядеться.
— Я же и виновата! — шепнула Маша; прижимаясь к царевне.
— Да, тебе хорошо, — продолжала свой жалобный шепот Ирина, — ты его видела, ты его опять увидишь, ты говорила с ним долго, много времени была с ним, а я…
— А ты?… Ты с ним всю жизнь будешь, царевна! Как тебе и на ум взбрело говорить такие речи? Что я? Я служанка твоя, раба твоя верная… не мой он, а твой…
Ирина не расслышала, не почувствовала, не поняла, что в этих последних словах ее Маши, этого беззаботного бесенка, вдруг прозвучала какая-то грустная, странная нотка.
— Полно же, перестань, что тут говорить слова напрасные, что тут причитать и жаловаться; лучше, коли не спится тебе, потолкуем о том, что будет. Вот подожди, скоро попируем на твоей свадьбе, царевна!
— Ах, Машуня, не верится мне такому счастью! Чудится мне — не бывать этой свадьбе.
— А мне вот так чудится, быть ей, и даже очень скоро.
— А коли он не захочет креститься?
— Может, вчера и не захотел бы, а сегодня как же так не захочет? Ну, скажи мне сама, царевна, нешто после сегодняшнего вечера можно ждать от него отказа?
— Так ведь об этом-то с ним и надо было перемолвиться, — сказала Ирина.
— Оно так, — соглашалась Маша. — Да что же ты тут поделаешь? Мы ведь и то чуть было его не погубили…
И она рассказала царевне о том, что поняла из слов Настасьи Максимовны. Та вся так и похолодела от ужаса.
— Машуня, да ведь это что же такое? Ведь его, того и жди, поймали! Боже мой, Боже! Где он? Что с ним? Чует мое сердце беду неминучую… ох, чует!…
Теперь уж никак и ничем не могла Маша успокоить царевну. До самого света сидела она над нею, а когда забрезжилось, оставила ее всю в слезах, в необычайном волнении и страхе.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
Хоть и часто оказываются верными предчувствия любящего сердца, но на сей раз все опасения царевны были напрасны: с Вольдемаром ничего не случилось.
Сбросив с себя столбунец с покрывалом, телогрею и сорочку у забора и уже не стесняемый этим неудобным длинным нарядом, он быстро выбрался из сада, с пути не сбился, да и поднявшаяся луна пришла ему на подмогу. Час для Москвы был уже поздний. Все спали. Даже собака не залаяла на королевича из-под опасной подворотни. Когда он перелез через забор своего сада и очутился между своими, то и тут никто не обратил внимания на его долгое отсутствие.
Датчане, по обычаю, пировали: почти все были сильно навеселе, пели свои песни и играли на музыкальных инструментах. Вольдемар не присоединился к веселой компании, а прямо пошел в свою опочивальню и заперся. Он всецело находился под очарованием только что случившегося с ним приключения.
Он был безумно влюблен, насколько может быть влюблен молодой человек его лет в лунную тихую ночь и среди таких исключительных обстоятельств.
В своих чувствах он, конечно, не отдавал себе отчета, но если бы мог их анализировать или если б это сделал за него другой, оказалось бы, что неизвестно еще, в кого он больше влюблен: в царевну или в Машу.
Как бы то ни было, если бы к нему пришел теперь Пассбирг с известием, что все улажено, что всех их хоть сейчас отпускают с честью обратно в Данию, он решительно ответил бы: «Я остаюсь здесь, никуда не уеду!»
Уже прошла ночь, прошла она в молодых любовных грезах, сменявшихся тоже молодым крепким сном. Поднялось над Москвою солнце, и при его ясном, спокойном, правдивом освещении исчезли все чары, все призраки летней ночи.
Влюбленность Вольдемара, конечно, не прошла, но наступивший день дал простор иным свойствам его характера, его сильной природы. Теперь он уж не ответил бы Пассбиргу: «Я остаюсь здесь, я не еду», — теперь, если бы посол объявил ему о возможности отъезда, он просил бы только обождать несколько дней и стал бы придумывать смелый план похищения царевны.
Если обстоятельства не изменятся, если его по-прежнему будут принуждать переменить веру, он умрет скорей, но этого не сделает. Никакая ночь, никакие любовные чары не заставят его быть малодушным, унизиться перед собою, сделать то, за что и он сам, и все честные люди могли бы презирать его…