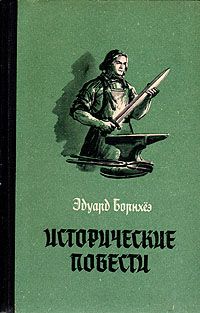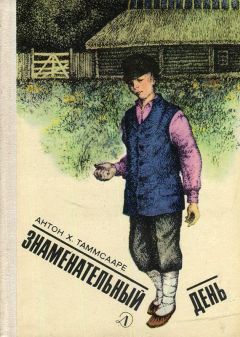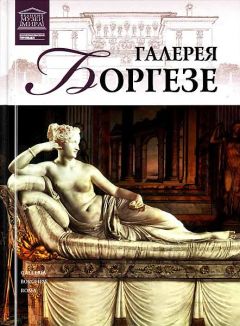Роже дю Гар - Семья Тибо (Том 2)
- В Петербурге... В понедельник сто сорок тысяч забастовщиков... Сто сорок тысяч... Во многих кварталах - осадное положение... Телефонное сообщение прервано, трамваи стоят... Кавалергарды... Вызвали четыре полка с пулеметами... Казацкие полки, части...
Дети вихрем налетели на них, и конец его фразы превратился в кашель.
- Но полиция, генералы ничего не могут поделать... - продолжал он, забросив мяч на середину лужайки. - Волнения идут одно за другим. Правительство роздало к приезду Пуанкаре французские флаги, - женщины сделали из них красные знамена. Конные атаки, расстрелы... Я видел бой на Выборгской стороне... Ужасно!.. Потом у Варшавского вокзала... Потом в Старой Деревне. Потом ночью, в...
Он опять замолчал из-за детей. И внезапно с какой-то жадной нежностью схватил самого маленького, бледного, белокурого мальчугана лет четырех-пяти, смеясь, покачал его у себя на коленях и крепко поцеловал прямо в губы; потом опустил ошеломленного малыша на землю, взял мяч и бросил его.
- Забастовщики безоружны... Булыжники, бутылки, бидоны с керосином... Чтобы задержать полицию, они поджигают дома... Я видел, как горел Сампсониевский мост... Всю ночь повсюду пожары... Сотни убитых... Сотни и сотни арестованных... Все под подозрением... Наши газеты запрещены уже с воскресенья... Редакторы в тюрьме... Это революция... Да и пора: иначе была бы война... Твой Пуанкаре подгадил нам, здорово подгадил...
Обратив лицо в сторону лужайки, где суетилась детвора, он старался делать вид, что смеется, но ему удавалось только сложить губы в какую-то угрюмую усмешку.
- Теперь я пойду, - мрачно произнес он. - Прощай!
- Да, - сказал Жак. Это слово вырвалось вместе со вздохом, хотя кругом никого не было, затягивать свидание не имело смысла. Подавленный, он прошептал: - Ты возвращаешься... туда?
Княбровский ответил не сразу. Наклонив туловище, упираясь локтями в колени, устало опустив плечи, он созерцал песок дорожки у своих ног. Казалось, его поникшее тело поддалось внезапной слабости. Жак заметил по обеим сторонам его рта глубокие складки, проведенные самой жизнью и говорившие о покорности судьбе - или, вернее, о неистощимом терпении.
- Да, туда, - сказал он, поднимая голову. Взгляд его окинул пространство, сад, дальние фасады домов, синее небо и нигде не задержался; в нем было отрешенное и вместе с тем полное решимости выражение человека, готового на любые безумства. - Морем... из Гамбурга... Я знаю способ перейти границу... Но там, знаешь ли, нам становится трудно... - Не торопясь, он встал со скамейки. - Очень трудно.
И, наконец-то переведя свой взгляд на Жака, он вежливо дотронулся до козырька своей кепки, как случайный сосед, которому пора уходить. Глаза их встретились, - это было тревожное братское прощание.
- В добрый час![61] - шепнул он перед уходом.
Ребятишки провожали его смехом и криками, пока он не вышел за ограду. Жак следил за ним глазами. Когда русский скрылся из виду, он сунул в карман лачку газет, оставшуюся на скамейке, и, поднявшись, в свою очередь, мирно продолжал прогулку.
В тот же вечер, зашив в подкладку своего пиджака конверт, полученный от Княбровского, он сел в Брюсселе на парижской поезд. А на следующий день, в четверг, рано утром секретные документы были переданы Шенавону, который вечером должен был быть в Женеве.
XXVIII. Четверг 23 и пятница 24 июля. - Возвращение Жака в Париж
В этот же четверг, 23-го, Жак с утра направился в кафе "Прогресс" почитать газеты; он расположился в нижнем зале, чтобы ему не помешала "говорильня" на антресолях.
Отчет о процессе г-жи Кайо целиком заполнял первую страницу почти всех газет.
На второй и третьей странице некоторые газеты решились дать краткое сообщение о том, что в Петербурге забастовало несколько заводов, но что рабочие волнения были тотчас же прекращены благодаря энергичному вмешательству полиции. Зато целые страницы были посвящены описанию празднеств, данных царем в честь г-на Пуанкаре.
Что же касается австро-сербских "разногласий", то на этот счет пресса высказывалась как-то неопределенно. Одна заметка, видимо официозная, потому что она была всюду перепечатана, указывала, будто в русских правительственных кругах полагают, что в ближайшее время будет достигнуто дипломатическим путем некоторое ослабление напряженности. Большая часть газет высказывала в весьма любезной форме полное доверие к Германии, которая во время балканского кризиса всегда умела внушить умеренность своему австрийскому союзнику.
Лишь "Аксьон франсез"68 открыто выражала беспокойство. Для нее это был прекрасный случай более резко чем когда-либо выставить напоказ всю специфическую слабость республиканского правительства в вопросах внешней политики и заклеймить "антипатриотизм" левых партий. Особенно доставалось социалистам. Не довольствуясь своими каждодневными - на протяжении ряда лет - утверждениями, что Жорес предатель, продавшийся Германии, Шарль Моррас, выведенный из себя громкими призывами к интернациональной солидарности и миру, непрерывно исходившими от "Юманите", теперь, казалось, почти открыто взывал к какой-нибудь новой Шарлотте Корде69, чей кинжал должен был бы освободить Францию от Жореса. "Мы никого не хотим призывать к политическому убийству, - писал он осторожно и вместе с тем дерзновенно, - но пусть г-н Жорес трепещет! Его статья способна внушить какому-нибудь безумцу желание разрешить посредством эксперимента вопрос, не изменится ли кое-что в неизбежном порядке вещей, если г-н Жан Жорес разделит судьбу г-на Кальмета". Кадье, спускавшийся вниз, быстро прошел мимо.
- Ты не поднимешься? Там идет жаркая дискуссия... Очень интересно: приехал из Вены один австриец, товарищ Бем, посланный сюда по партийному делу... Он говорит, что австрийская нота будет направлена в Белград сегодня вечером... Как только Пуанкаре покинет Петербург.
- Бем - в Париже? - спросил Жак, тотчас же вскакивая с места. Он обрадовался при мысли, что может снова увидеться с этим австрийцем.
Он поднялся по маленькой винтовой лестнице, толкнул дверь и действительно увидел товарища Бема, который спокойно сидел перед кружкой пива, положив себе на колени сложенный желтый макинтош. Его окружили, забрасывая вопросами, человек пятнадцать партийных активистов; он методически отвечал, жуя, как всегда, кончик сигары.
Жака он встретил дружеским подмигиванием, словно расстался с ним только вчера.
Привезенные им вести о воинственной позе Вены и о том, как возбуждено австро-венгерское общественное мнение, казалось, вызывали всеобщее негодование и беспокойство. Возможность предъявления Австрией агрессивного ультиматума Сербии при создавшемся положении могла привести к серьезным осложнениям, тем более что председатель сербского совета министров Пашич70 обратился ко всем европейским правительствам с превентивной нотой, в которой говорилось, что державы не должны рассчитывать на совершенную пассивность Сербии и что Сербия полна решимости отвергнуть любое требование, несовместимое с ее достоинством.
Ничуть не желая оправдывать авантюристическую политику своего правительства, Бем тем не менее пытался объяснить раздражение Австрии против Сербии (и России) постоянными оскорблениями, которые этот маленький беспокойный сосед, поддерживаемый и подстрекаемый русским колоссом, наносил национальному самолюбию австрийцев.
- Хозмер, - сказал он, - прочел мне конфиденциальную дипломатическую ноту, которую уже несколько лет тому назад министр иностранных дел Сазонов направил из Петербурга русскому послу в Сербии. Сазонов особо отмечает, что некоторая часть австрийской территории была обещана Россией сербам. Это документ огромной важности, - добавил он, - ибо доказывает, что Сербия, - а за ее спиной Россия, - действительно являются постоянной угрозой для безопасности Oesterreich![62]
- Опять гнусности капиталистической политики, - закричал с другого конца стола какой-то старый рабочий в синей блузе. - Все европейские правительства, демократические или недемократические, со своей тайной дипломатией, не знающей народного контроля, являются орудием в руках международного финансового капитала... И если Европа в течение сорока лет избегала всеобщей войны, то лишь потому, что финансовые заправилы предпочитают вооруженный мир, при котором государства все больше и больше влезают в долги... Но в тот день, когда банковские воротилы найдут для себя выгодным разжечь войну, - увидите!..
Все выразили шумное одобрение. Что за беда, если это вмешательство имело лишь самое отдаленное отношение к конкретным вопросам, которые затрагивал Бем.
Какой-то юноша туберкулезного вида, знакомый Жаку в лицо и привлекавший его внимание своим пристальным лихорадочным взглядом, внезапно заговорил, процитировав глухим голосом одно из высказываний Жореса насчет опасности тайной дипломатии.