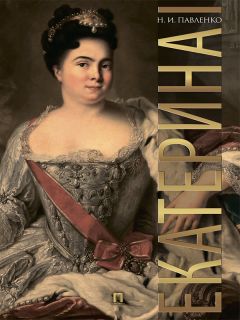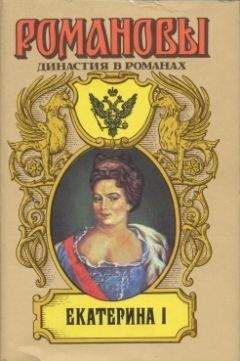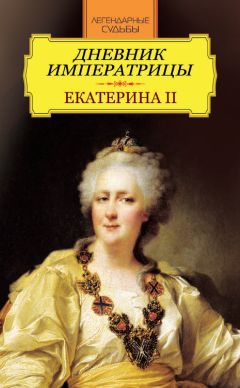Наоми Френкель - Дети
– Белла, – представляет Нахман симпатичную девушку, пришедшую в его сопровождении.
– Ганс Блум.
Имя вызывает потрясение в душе Беллы, глаза ее испуганно смотрят на него.
– Блум?.. Может, вы имеет отношение к доктору Блуму, окулисту?
– Это мой отец.
Она знала, что он сын, те же тяжелые глаза подсказали ей это. Лицо ее краснеет, глаза наполняются горячей симпатией. Хотела бы рассказать ему, что его отец – любимый ее человек, но ничего не говорит.
– Ваш отец наш большой друг.
И потому, что она знакома с его отцом, и с такой симпатией говорит о нем, кажется Гансу, что ворота ближайшего дома открываются перед ним и втягивают его в себя. Не спрашивает она его, как он здесь появился, в полночь. Кажется, ей само собой понятно, что он должен находиться среди них. Может, в душе она полагает, что отец послал его к ним именно в этот час.
– Вы встречаете песнями и танцами Новый год, – говорит он.
– Белла, – зовет ее кто-то из окружающих, – идем с нами в круг.
– Идемте с нами, – зовет она гостя.
– Мне не знаком этот ваш танец. Посмотрю, может, поймаю принцип.
Круг все расширяется.
Твой народ, Израиль, будет воссоздан,
Твой народ, Израиль, будет воссоздан,
Твой народ, Израиль, будет воссоздан.
Народ Израиля жив,
Народ Израиля жив!
Круг в круге. Большой внешний круг, а в нем – поменьше, и еще поменьше. И в центре всех кругов – Зерах, сидящий на стуле и поднятый над всеми. И когда все поют, повторяя – «Народ Израиля жив», он кричит громким голосом:
– Еще! Не смолкать!
Еще! Не смолкать!
Глава двадцать четвертая
Раскаленный брус металла выскочил из отверстия печи. Ореол искр и белые клубы пара объяли пляшущие языки пламени. Шорохи, пузыри. Огненная река излилась из доменной печи, подняв дождь огня.
– Эрвин! Эрвин! Ты что, совсем спятил? – это литейщик Вилли, низкорослый, поперек себя шире, балагур, набитый шутками, как плод граната, нахмурил свое круглое доброе лицо, – что с тобой случилось, человек? – оттягивает он Эрвина от огня – ты что, забыл все правила безопасности, тебя чуть не ранило.
– И это было бы лучшим выходом, – сжимает Эрвин губы. Искры видны у него в волосах. Вилли приподнимается на цыпочки – погасить искры, и запах сожженных волос ударяет ему в ноздри.
– Берегись, – Вилли теребит его волосы, – что-то с тобой не в порядке.
Но так как Эрвин молчит, Вилли возвращается к своей печи, ни на миг не спуская глаз с друга. Приближается большой кран, вонзает клешни в поток металла и уносит добычу. Раздается звон колокола. Время смены – у печей. Суматоха во всем цеху. Эрвин медленно снимает с рук кожаные перчатки и кожаный фартук.
– Сегодняшний день еще хуже вчерашнего, – бормочет он, нагнувшись над железным брусом. А глаза его смотрят на отверстие печи, все еще выбрасывающей клубы пара.
Литейщики проходят мимо него, черные лицами, с красными воспаленными глазами, голые до пояса, тяжело ступая в высоких сапогах. Все торопятся покинуть цех, и все же каждый, проходя мимо Эрвина, останавливается на миг, чтобы уважительно его поприветствовать. Откуда к нему такое уважение? Из-за его общественного положения, образования или ума? Или как к одаренному литейщику? Или по какому-то его личному обаянию?
«Они были бы готовы прийти мне на помощь, – смотрит Эрвин в поток движущихся голых спин, на которых мышцы перекатываются, подобно гибким струнам, – они готовы все сделать для меня, – размышляет Эрвин.
– Человек, – опускается рука на его плечо, рука Вилли, который остановился рядом, – то, что произошло с тобой утром, верно, из-за слухов, что распустили все вечерние газеты.
– Что? Что? – нотки надежды проскользнули в голосе Эрвина. – Слухи?
– Да что с тобой сегодня? Слухи о Гитлере, естественно. Ты не читал вчера, что он приглашен тайно стариком – вести переговоры о том, чтобы возглавить правительство?
– А-а, да... Ну, конечно...
– Пошли. Выпьем кофе и перебросимся мнениями.
– Приду. Еще немного, и приду.
– Не исчезай. Есть, о чем поговорить.
– Сказал – приду!
«Нет никакого смысла встречаться с ним», – упирается Эрвин взглядом в широкую спину друга, удаляющегося от него.
Вилли останавливается у входа в цех, поворачивается к Эрвину, машет ему рукой.
«Жест расставания».
Вилли исчез. Вили его друг, его поклонник. Он готов сделать для Эрвина все, если Эрвин расскажет ему о том, что его ждет. Но Вилли не в силах ему помочь. Ни один человек не в силах это сделать. Кроме... да, кроме самого Гитлера. Ха! Действительно желательно такое ужасное событие, как приход Гитлера к власти во имя его, Эрвина, спасения. Только это в силах отвести петлю с его шеи. Может, еще свершится чудо. Ха-ха! Чудо Гитлера, спасшего ему жизнь. Перед ним лицо отца, одноглазого мастера. Нет, никакого чуда! Конец его обеспечен – со всех сторон. И все-таки, может... Свершится чудо, которому он молится.
Позавчера он вернулся с фабрики в дом Леви, и Фрида ему сообщила, что кто-то ему звонил и сказал, что еще раз позвонит. «Мужчина или женщина?» – спросил он. Может, это была Герда? По хриплому голосу, сказала Фрида, это, несомненно, был мужчина. Когда он вошел в свою комнату, на лице его все еще был испуг. Эдит лежала в постели, вся, как девушка, в ореоле своих золотых волос. Это был особенно любимый для Эрвина ее вид. Как человек, только спасшийся из опасного места в надежное убежище, он поспешил к ней, и она, поднявшись на локтях, сказала подозрительным и непривычно холодным голосом:
– Кто-то тебе звонил, Эрвин.
Он смотрел в ее красивое лицо и думал – «Достаточно одного телефонного звонка, чтобы я потерял целый мир радости». – И отвернулся. Не хотел, чтобы она почувствовала его настроение. Поспешил в ванную и задержался там дольше обычного. Когда он вернулся, она все еще лежала в постели, но лицо ее было спокойно, а ухо его настороженно ожидало телефонного звонка.
– Что с тобой сегодня, Эрвин? – она видела на лице его напряжение ожидания чего-то.
Ничего, просто очень устал на фабрике, и хотел бы немного подремать. Нет, ничего... Она тут же покинула комнату, но не как всегда, поцеловала, уходя, хотя расставалась на минуту. В комнате потемнело. Свет заката шел по ней тенями. В саду, между деревьями, ворон без устали каркал. Телефон звонил много раз. При каждом звонке он прижимал подушку к уху, делая вид, что спит. Слышал смех кудрявых девиц и пение Зераха в ванной. Слышал мелодию патефона, который завел Фердинанд, и поучения Фриды Бумбе. Чувствовал, что вся обычная жизнь в доме его не касается, он как бы живет сам по себе, замкнутый в собственной душе. Шины автомобиля заскрежетали у ворот дома. Он был уверен, что приехали его забрать. Как было решено на суде, он послал им паспорт в начале января. Не слышал от них ничего до этого телефонного звонка... Слышен голос Гейнца. Но и он не принесет ему успокоения. Сила ожидания в нем исчерпалась. Он вскочил с постели и подошел к окну, прячась за портьерами. Сад был тих. Смотрел на весь этот покой, и думал о том, что принесут следующие часы. И тут, впервые, после многих недель, отдался всем сердцем Герде и маленькому сыну. Ощутил объятия его маленьких рук, и страдания его усилились. Дверь за его спиной открылась. Эдит проскользнула тайком в комнату, обняла его за шею. Прикоснулась горячей рукой к его холодной щеке.
– Ты не находишь себе покоя.
– Да, не нахожу.
– Тебе звонила Герда?
– Нет, правда, не Герда.
– Кто же?
– Из партии, я полагаю.
– Чего они еще хотят от тебя?
Тяжко взвешивал – не рассказать ли ей все, как есть, но сердце приказывало – молчать. Не хотел, чтоб тень его будущего преследовала ее, даже на миг. Он не расскажет ей о приказе, ведущем его к гибели. Никакое разрывающее душу расставание между ними не будет. Он не похоронит себя перед ней. Пойдет своим путем до конца со спокойным, безмятежным лицом. У него большой долг перед ней. В его молчании – последний дар их любви. Этим он оплатит ее радость и красоту, которыми она наполнила последние недели его жизни. Безмолвно исчезнет из ее жизни, и останется в ее сердце легкой памятью любви.
– Не знаю, – сказал твердым голосом, – чего они хотят от меня, да меня это не интересует. – Боялся, что голос его предаст, и потому еще больше его ужесточил. – Пожалуйста, Эдит, передай домашним, чтобы меня не звали к телефону сегодня вечером, меня нет дома.
– Приходи быстрей, – сказал ей вслед, уже стоящей в дверях.
Когда она вернулась, побежал к дверях и дважды повернул ключ в замке.
– Не зажигай света в комнате, – сказал он, и она ощутила бурю в его душе.
– И мы больше не выйдем из комнаты в этот вечер, – сказала она шутливо, как бы стараясь скрыть свои подозрения, словно все это не более, как легкие любовные игры.
Опустил портьеры на окне, закрепив их края к стене.
– Зачем ты причесалась? – спросил он ее.
– Для тебя, – подошла и поцеловала его.