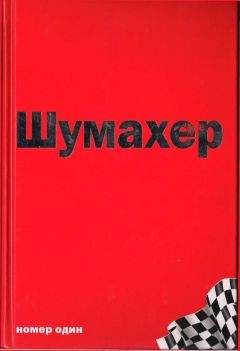Umberto Eco - Имя розы
Послушники испуганно озирались. Своим полудетским чутьем, ничего не зная и не понимая, они все же ощущали тревогу, нависшую над хором, как ощущал и я. В тишине, в потерянности тянулись долгие минуты ожидания. Аббат приказал читать псалмы и выбрал наугад три каких-то первых попавшихся, даже не предписанных правилом для вечернего богослужения. Все переглянулись, потом стали вполголоса молиться. Вернулся наставник послушников. За ним шел Бенций, который, не подымая глаз, проследовал на свое место в хоре. Хорхе не нашли ни в скриптории, ни в его келье. Аббат приказал начинать богослужение.
После вечерни, когда все направились в трапезную, я зашел за Вильгельмом. Тот одетый возлежал на кровати, вытянув ноги, в глубокой задумчивости. По его словам, он не думал, что уже так поздно. Я коротко пересказал ему все, что происходило в его отсутствие. Он покачал головой.
У дверей трапезной мы столкнулись с Николаем. В последний раз мы видели его, когда он вел Хорхе в аббатские покои. Вильгельм спросил его, сразу ли Хорхе был принят Аббатом. Николай ответил, что нет, пришлось довольно долго дожидаться перед дверью, потому что у Аббата были Алинард и Имарос Александрийский. Потом Хорхе вошел, некоторое время говорил с Аббатом, а он, Николай, ждал снаружи. Выйдя, Хорхе попросил проводить его в церковь. Это было за час до вечерни, и в храме в это время было совершенно пусто.
Аббат заметил, что мы говорим с келарем. «Брат Вильгельм, – вмешался он, – вы все еще ведете следствие?» И пригласил его, как обычно, пройти к своему столу. Бенедиктинское гостеприимство превыше всего.
Ужинали тише, чем обычно. Все были печальны. Аббат, погруженный в тяжелые думы, почти не касался еды. Через некоторое время он велел братии поживее собираться к повечерию.
Алинард и Хорхе снова отсутствовали. Монахи шептались и указывали друг другу на пустующее место слепца. По окончании службы Аббат призвал всех прочесть еще одну молитву – о спасении Хорхе Бургосского. Никто не понял, о телесном ли спасении идет речь или о спасении души. Но все почувствовали, что над аббатством нависло новое несчастье. Молитву прочли, и Аббат приказал всем без обычных промедлений разойтись по кельям и лечь в кровати. Он объявил, что ни один человек, – ни один, произнес он с особым ударением, – не имеет права находиться вне здания почивален.
Первыми храм покинули перепуганные послушники, опустив капюшоны, наклонив головы, даже и не думая на этот раз шушукаться, пихать друг друга локтями, лукаво пересмеиваться и тайно, коварно подставлять друг другу подножки, хотя обычно они только этим и занимались. Ибо послушники, пускай они уже и монашки, на самом деле все еще полудети, и тщетны все укоризны наставника: он не в силах сразу отучить их от ребяческих шалостей, к которым подталкивает юный возраст.
Когда стали выходить взрослые, я пристроился, не подавая виду, к той группе монахов, которых я теперь мысленно называл «итальянцы». Пацифик прошептал на ухо Имаросу: «Ты думаешь, Аббон правда не знает, где Хорхе?» А Имарос ответил: «Скорее всего, знает. И знает, что оттуда, где он есть, ему уже не выйти. По-видимому, старик слишком многого хотел. А Аббон не захотел больше терпеть его».
Чтобы не вызвать подозрений, мы с Вильгельмом сделали вид, будто возвращаемся в странноприимный дом. Не успев отойти, мы увидели, что из церкви выходит Аббат, поспешно направляется к Храмине, поднимается на крыльцо, открывает незапертую дверь трапезной и входит внутрь. Вильгельм шепнул, что надо обождать. Мы замедлили шаг. Когда на улице не осталось ни одного человека, мы бегом пересекли открытое пространство и снова оказались в церкви.
Шестого дня
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ,
Мы притаились, как двое убийц, около входа, за колонной, откуда было хорошо видно часовню с черепами.
«Аббон пошел закрывать Храмину, – прошептал Вильгельм. – Когда он заложит двери засовами изнутри, он сможет выйти только через оссарий».
«А потом?»
«А потом посмотрим, что он будет делать».
Но что он делал пока что – мы видеть не могли. Минул час, а его все не было. «Наверно, пошел в предел Африки», сказал я. «Может быть», – ответил Вильгельм. Но меня уже приучили выдвигать сразу несколько гипотез, и я продолжал: «А может быть, он снова вышел через трапезную и отправился искать Хорхе». Вильгельм в ответ: «Возможно и это». «Может быть, Хорхе уже мертв, – философствовал я дальше. – А может быть, он засел в Храмине и сейчас убивает Аббата. А может, наоборот, они с Аббатом заодно, а кто-то третий поджидает их в засаде. Чего добивались “итальянцы”? И почему так трясся Бенций? Не был ли его испуг личиной, нарочно надетой, чтобы сбить нас с толку? Зачем он задержался в скриптории во время вечерни, если не знает, ни как запереть Храмину, ни как выйти после этого? Пробовал пробраться в лабиринт?»
«Все может статься, – отвечал Вильгельм. – Но только одна вещь точно сталась… с какой-то стати… с меня сталось… Радуйся, Адсон! Бесконечное милосердие Божие наконец ниспослало нам твердую уверенность хотя бы в чем-то!»
«В чем?» – спросил я, озаряясь надеждой.
«В том, что брат Вильгельм из Баскервиля, который до сих пор считал, что может понять все на свете, оказался бессилен понять, как входят в предел Африки. В стойле наше место, Адсон, в стойле. Пошли».
«А если налетим на Аббата?»
«Притворимся привидениями».
Этот выход показался мне не самым лучшим, но я промолчал. Вильгельм на глазах терял самообладание. Мы вышли из-под северного портала, пересекли кладбище. Ветер неистово выл нам в уши, и я как мог молил бога избавить нас от встречи с настоящими привидениями – поскольку неприкаянных душ этой ночью в аббатстве витало сколько угодно. Наконец мы добрались до конских стойл и услышали, что кони беспокоятся еще сильнее, видимо из-за разгула стихий.
Поперек главного входа в конюшню был уложен на уровне человеческой груди толстый железный брус. Поверх него можно было заглянуть внутрь постройки. В темноте еле различались тени лошадей. Я узнал Гнедка – он занимал крайний слева денник. Немного дальше, третий в том же ряду конь поднял голову, учуяв нас с Вильгельмом, и заржал. Я усмехнулся: «Третий в конях».
«Как?» – переспросил Вильгельм.
«Да никак. Вспомнил беднягу Сальватора. Он собирался какие-то чудеса творить над этим конем. И звал его на своей дикой латыни “третий в конях” – “tertius equi”. То есть “u”».
«Почему “u”?» – снова переспросил Вильгельм, следивший за моей болтовней вяло, без всякого интереса.
«Ну, потому, что “третий в конях” означает не “третий конь”, а третья буква в слове “конь”. То есть по-латыни – “u”. Глупость, конечно…»
Вильгельм остановившимися глазами смотрел на меня. Даже в темноте я, казалось, видел, что происходит с его лицом. «Да благословит тебя Господь, Адсон, – произнес он, когда снова смог говорить. – Ну разумеется, suppositio materialis[95], определение дается de dicto, а не de re[96]. Боже, какой я идиот!» Со всего размаху, открытой ладонью он нанес себе такой удар по лбу, что раздался треск, и я решил, что ему станет худо. «Мальчик мой! Второй уже раз за сегодняшний день твоими устами глаголет истина! Сперва во сне, а теперь наяву! Беги, беги в свою келью, бери лампу, вернее обе лампы, которые у нас есть. Только смотри не попадись. И скорее возвращайся. Я буду ждать в церкви. Никаких расспросов! Беги! Живей!»
Я и побежал без расспросов. Обе лампы были спрятаны у меня под тюфяком и хорошенько заправлены маслом. Об этом я позаботился заранее. В рясе у меня имелось огниво. Схватив свои драгоценные орудия, я снова помчался в церковь.
Вильгельм, примостившись под треногой, перечитывал пергамент с выписками Венанция.
«Адсон, – сияя, окликнул он меня. – “Первый и седьмой в четырех” значит не первый и седьмой из четырех, а первая и седьмая буквы в слове “quatuor” “четыре”!»
Я не сразу понял, но скоро дошло и до меня. «Super thronos viginti quatuor! Надпись! Стих Апокалипсиса! Слова, выбитые над зеркалом!»
«Бежим, – торопил Вильгельм. – Может, еще успеем спасти его!»
«Кого?» – спросил я. Но Вильгельм был уже возле черепов, вертел там что-то, тыкал пальцами в глазницы, открывал проход в мощехранилище.
«Того, кто этого не заслуживает», – отвечал он мне на бегу. Мы мчались по подземному коридору, свет мигал и трясся в такт нашему бегу, на нашем пути встала дверь, ведущая в кухню.
Я уже говорил, что коридор упирался в эту деревянную дверь, выходящую в кухню, как раз за хлебной печью, у подножия винтовой лестницы, которая вела наверх в скрипторий. Так вот, как раз когда мы взялись за эту дверь и она подалась под руками, мы вдруг услышали слева от себя, внутри стены, глухие стуки. Они доносились из толщи стены, откуда-то рядом с дверью, где кончалась череда ниш с черепами и костями. Там, где должна была быть последняя ниша, вместо нее шел участок глухой стены, сложенной из крупных квадратных каменных блоков, а в середине была вмурована старинная гробовая плита с какими-то затертыми буквами. Удары слышались вроде бы из-за этой плиты, или из какой-то более высокой точки, то ли из стены, то ли откуда-то чуть ли не с потолка.