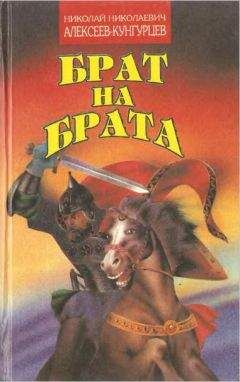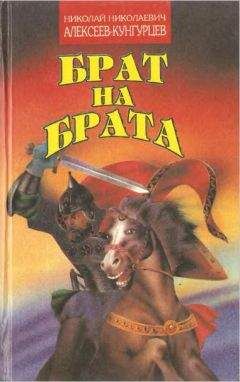Николай Алексеев-Кунгурцев - Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск.
А толпа все росла.
Когда Никита и Федот приблизились, наконец, к собору, то увидели, что пробраться во внутренность церкви далеко не так легко, как они предполагали: на паперти собора была страшная давка. Пока они стояли, раздумывая, лезть ли уж им в эту давку, из толпы на паперти послышался хриплый старушечий голос:
— Ой, ой! Отпустите, православные, душу на покаяние! Да-а-вят!
Очевидно, в толпе кого-то давили. Крик этот раздался неподалеку от Федота и Никиты, стоящих близь паперти. Они поспешили на помощь, проложив дюжими кулаками себе проход, вытащили из давки того, кто кричал. Это оказалась старуха. Она полузадохлась и теперь, стоя на просторе, вне толпы, жадно вдыхала воздух.
— И чего эфто ты, бабушка, в давку такую полезла… Знамо дело, стар человек, слаб, как раз раздавят, — с укоризной сказал Федот, глядя на бледное лицо старухи.
— Ох, уж и не говори, милой! Чуть душу Богу не отдала… так сдавили… И ума просто не приложу, чего я полезла-то туда! Шла мимо, вижу, в собор народ валит. Что такое? спрашиваю, потому знаю, обедня уж кончилась. Говорят мне: — митрополит молебен служить будет по сему случаю, что крымчан наши вой побили, и царь приедет… Услышала я, ну и мне захотелось помолиться со всеми, и полезла в давку… Оглупела совсем, видно, я от старости. Вот те и помолилась! Кабы не вы, добры молодцы, спасибо вам, так совсем бы мне тут конец, право слово! Умерла б, спаси Бог, без покаяния!
— Авдотья! Ты что здесь делаешь, старая? — окликнул ее в это время высокий загорелый незнакомец.
Старуха — это была нянька Марьи Васильевны — с недоумением посмотрела на незнакомца, звавшего ее по имени.
— Чтой-то, боярин, — сказала она, глядя на стоящего перед нею мужчину, заслонив рукою от солнца свои подслеповатые глаза, — как будто мне не признать, кто ты таков.
— Перемена во мне, стало быть, большая, коли ты меня признать не можешь, — произнес, усмехаясь, незнакомец.
— Батюшки-светы! Да никак это ты, боярин, Андрей Михалыч! — всплеснула руками старуха.
— Он самый, он самый, бабушка!
— Да неужто вернулся уж совсем с похода?… Ведь, кажись, войско еще не возвратилось…
— Совсем вернулся!.. Хочу в Москве-матушке белокаменной пожить: надоело с татарами гололобыми возиться… Тоска взяла, вот и приехал домой, благо, попутчик нашелся — посланец от Данилы Адашева — князь Хворостин, Федор!.. Так-то! Вчера поздно только в Москву приехал, еще нигде побывать не успел. Ну, как поживаешь, старая?
— Да уж, какое мое житье? Знамо дело, старость — все кости болят, особливо к дождю, так просто моченьки нетути!.. Одначе Бог еще моим грехам терпит, скриплю помаленьку; сейчас только чуть было душу мою грешную Ему в руцы не отдала. Кабы не эти молодцы, то не быть бы…
— Как боярыня? Здорова ли? — нетерпеливо перебил Андрей Михайлович словоохотливую старуху.
— Здорова, слава Богу! К ней-то я и пробиралась, да по пути в собор завернуть вздумала.
— Как к ней? — удивился князь, — Стало быть, домой?
— Нет, к ней самой… Да ты что же, нешто не слыхивал?
— Чего? — спросил князь, и сердце его сжалось недобрым предчувствием.
— Неужто не слышал про радость-то нашу? — снова спросила старуха.
— Да нет же, не слышал, да и слышать некогда было: сказывал, вчера вечером только приехал… Что же? Какая радость!
— Да ведь повенчали мы нашу боярышню! — брякнула старуха, не подозревая, какой удар она наносит этими словами князю.
— Как?! Давно ль? — вскричал, побледнев как смерть, князь.
— Да вот уж второй месяц идет…
— За кого она вышла? — едва слышно спросил Андрей Михайлович.
— За Ногтева князя, царица сама, бают, ее просватала… Только, по правде сказать, не больно, видно, охота была боярышне замуж идти… Убивалась страсть как, сердешная! Высохла вся с тоски, перед венцом такая была, что в гроб краше кладут, глядеть жалостно становилось. И с отцом у нее была допреж этого ссора большая: она, вишь, бают, за кого-то другого замуж просилась, а отец не пущал. Известно, не захотел — что с ним поделаешь!.. А только гневался он тогда сильно, на весь дом страху нагнал. Теперь ничего живет с мужем Марья Васильевна, ладно, кажись… Известно, стерпится — слюбится!
— Прощай, Авдотья! — внезапно сказал князь, отходя от старухи.
— Что ж ты это так вдруг, боярин? — удивилась старуха. — И не сказал, что передать Марье Васильевне, али сам зайдешь к ней?
— Скажи ей, чтоб лихом меня не поминала, а сам к ней не пойду.
— Почему ж?
— А уж так! Прощай! — проговорив это, Андрей Михайлович скрылся в толпе.
А старуха долго еще стояла неподвижно, дивясь такому концу разговора с князем. И пришло ей на ум, что уж не Андрей ли Михайлович был тем молодцем, который Марье Васильевне приглянулся, и по которому слезы горькие боярышня проливала, да и ему, знать, девица по сердцу пришлась.
«Так, должно, и есть!» — думала старуха, устремив глаза куда-то вдаль и пожевывая тонкими ввалившимися старческими губами. — «Ишь, дело, какое! Да… То-то она, сердешная, так слезами горючими обливалась. Грех, какой! И чего Василий Иваныч не позволил замуж за этого боярина идти, ума не приложу?… Спесь, должно, боярская помешала, — родом, верно, ниже его Андрей Михайлыч, ну и вздурил старый! Эх, греховодник! Ну, да уж теперь что — дело сделано, назад не оборотишь. Поплетусь, ин, да расскажу Марье Васильевне, кого видала… Тоже, пожалуй, грустить будет, болезная!
Авдотья заковыляла, медленно пробираясь сквозь толпу снующего перед храмом люда.
X. РАЗБИТОЕ СЧАСТЬЕ
Андрей Михайлович, отойдя от Авдотьи, поспешно пошел, сам не зная куда. Он словно хотел уйти от того, что сейчас внезапно закралось к нему в душу: от чего-то ужасного, более страшного, чем смерть, тоскливого и щемящего неумолчно. Он шел, опустив голову, ничего не видя, не слыша. Натыкался на прохожих, чуть не попадал под копыта коней и все шел вперед, не останавливаясь, не оглядываясь назад. В его голове не было дум, лишь одна мысль жгла ему мозг. «Изменила! Изменила!» — проносилось в его голове, и это же слово шептали уста.
Прохожие останавливались и сторонились, глядя на этого быстро шедшего прямо на них человека, неестественно размахивавшего руками и что-то бормотавшего себе под нос
— Ишь, молодец, как зелена вина нахлебался! — говорили они и провожали молодого боярина насмешливыми или укоризненными взглядами.
А Андрей Михайлович все продолжал свой путь, все прямо, прямо, никуда не сворачивая, не останавливаясь.
Невдалеке узкою серебристою лентою сверкнула Москва-река. Андрей Михайлович, не сознавая, что он делает, подчиняясь лишь стремлению идти все дальше и дальше, шел прямо к реке, миновал набережную, тогда не имевшую никаких перил, спустился с откоса берега. До воды оставалось шага два. Молодой боярин поднял голову. Ему бросилась в глаза сверкающая под лучами солнца поверхность речки. Он понял, что перед ним вода.
«Что-то мне теперь? В омут! Да… Туда… — мелькнуло у него в голове. — Прости-прощай, жизнь!» — и, перекрестившись Андрей Михайлович готов был броситься.
Чья-то рука удержала его.
— Побойся Бога, боярин! Не губи душу! — раздался за его спиною чей-то голос.
Бахметов с досадой оглянулся. Позади себя он увидел небольшого роста мужчину, лет шестидесяти. Человек этот был чрезвычайно слаб по виду, длинная запущенная борода и всклокоченные волосы, обрамлявшие его исхудалое лицо, придавали ему странный и дикий вид. Одет этот незнакомец был в длинную, темную одежду, напоминавшую подрясник, кое-где прорванную. Поясом ему служила железная цепь.
Как ни был расстроен Андрей Михайлович, однако он с первого взгляда узнал в этом незнакомце известного всей Москве юродивого.
Во взгляде юродивого было что-то такое, что заставило Андрея Михайловича несколько прийти в себя.
— Оставь меня, блаженненький! Чего тебе? — с неудовольствием промолвил Бахметов.
— Негоже так делать, боярин! Негоже! — ответил юродивый, качая головою.
— Почем ты знаешь, старче, что негоже? Знать, жизнь опостылела… Не от сладости ведь… Пусти меня! Не могу я жить… Кабы ты знал, то… — мрачно произнес Андрей Михайлович.
— Жизнь опостылела! Экие слова промолвил, — перебил его юродивый. — И не боязно тебе?
— Чего бояться? Жизнь хуже смерти!
— А грех? Аль для тебя и Бога уже нет? — строго промолвил старик.
— Бог… Бог… — смутился Бахметов. — Бог простит. Он все видит, знает, с какого горя я на это решаюся.
— А! Бог-то терпелив и многомилостив, а грех мы — в орех! Вот оно что! Так, так!.. Ныне и все православные так делают, потому им от этого и жить легче, и помирать не боязно… Хе-хе! Христиане боголюбивые… И жить легко, и помирать хорошо… н-да… Один — грех в орех, чтоб мошну потолще за пазуху спрятать, другой — чтоб мошну ту стащить, а третий — чтоб горе в реке утопить… Так-то… И ладно бы все — да грехи-то, пожалуй, в орехи не запрячете — орехов не хватит, а грехов еще короб целый останется… Куда деть? Отдадим блаженненькому, он до Бога дотащит… А у блаженненького силушка слабенька… Где ему стащить коробище? Тащите, говорит, сами, православные, коли натаскать сумели… Тащите. Хе-хе. А блаженненькому не под силу. Хе-хе. Вышла вся силушка его, в людях истратилась, — говорил юродивый, по привычке прибегая к темной и странной речи.