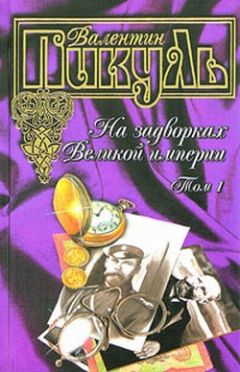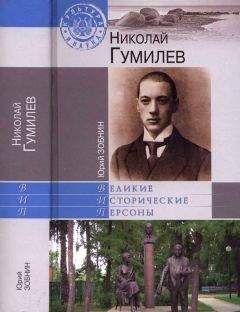Валентин Пикуль - На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона
– Вернуться, – шепнул Кузьмин на прощание[14].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вот и конец марта – расквасились питерские лужи, осели на окраинах сугробы, хорошо щебечут, радуясь весне, птицы. И такой сладкий воздух по весне – густой, жирный. Уже парит…
А на Озерках, под самым Петербургом, – тишина и благодать. Гапон сбежал с высокой насыпи железнодорожного полотна – прямо в объятия Рутенберга, своего милого друга.
– Ну, веди, – сказал Гапон. – Хорошо бы зайти куда-нибудь да выпить. Чего так-то ходить? Мы ведь – не дачники.
– Не волнуйся, у меня тут уже квартира. Там все есть…
Прошли на тихую, утонувшую в сыром снегу дачу. Разноцветные стекляшки в рамах дробили солнечный свет на радужные лучики. Чистые половицы, пустые комнаты.
– Садись, – сказал Рутенберг. – Куда хочешь.
– А здесь никого нет?
– Мы одни, – ответил Рутенберг, успокаивая.
Гапон заговорил сразу – живо и цинично.
– Надо кончать. Чего ломаешься, как девка? – говорил он. – Двадцать пять тысяч – деньги немалые.
– Сто тысяч, – выговаривал себе Рутенберг.
– Сделай четыре дела, и будет тебе сто…
– Я их продам, – отвечал Рутенберг, много куря, – а их возьмут и повесят… Знаю же я – повесят!
– Ну, что с того, что повесят? – возразил Гапон. – Такое уж ваше дело – висеть. Однако вот Каляева вы же послали на виселицу – и ничего. Не подохли от угрызений совести!
Рутенберг задумался:
– Азеф узнает, что я виделся с директором департамента полиции, и знаешь же сам, что он пустит мне в лоб пулю.
– Так уж сразу и пустит? – сомневался Гапон. – Доверь это Рачковскому: он сделает все так, что комар носа не подточит. Они ведь в полиции люди опытные! С богатым стажем! Да и не ты первый продавать будешь своих… Еще сколько вашего брата теперь благоденствует. Почтенные люди в обществе. Едят как! Пьют как!
Рутенберг посмотрел на сверкающую брошь в галстуке Гапона.
– Слушай, ты богат? – спросил. – Сколько тебе платят сверху за твои дела с рабочими?
– Я книжку написал. Мемуары! Вот с гонорариев и богат.
– Но граф Витте тебе много дал?
– Все разошлись, – нехотя ответил Гапон. – Там рабочим сунешь, там… свои же стащат. Мне много и не надо. Я ныне скромник!
Гапону явно не хотелось говорить о деньгах, которые он растратил, и он перевел разговор на выборы в думу:
– А эсеры да эсдеки сели в лужу со своим бойкотом. Кадеты верх берут. Вся дума будет кадетской. Но вот помяни мое слово: ежели дума зарвется, Витте разгонит ее, как и Советы разогнал.
– Витте и Дурново уходят, – сказал Рутенберг.
– Ну да! Жди. Они уйдут… как же!
– Послушай, – спросил Рутенберг, смеясь, – а что, если рабочие узнают о твоих шашнях? И как ты деньги их спускал в Монте-Карло? И по кабакам в Париже сидел? И с Рачковским сносишься? Каково?
Гапон небрежно отмахнулся; дугой скатился с папиросы комок рыхлого пепла, упал на чистый половик.
– Ерунда! – ответил Гапон. – Откуда им узнать? А ежели и узнают, так скажу: дурни, для вашей же пользы заводил знакомства. Да, и в рулетку играл, и в кабаках сидел… Так что с того? Это мое дело… Не смейся! Общество, печать – все чушь. Я и куплю и продам их. Я эту публику знаю…
Гапон встал.
– Клозет внизу? – спросил; толкнул двери, но тут по лестнице метнулась тень человека. – Нас слышали! – побледнел Гапон.
– У тебя где револьвер? – спросил Рутенберг, вскакивая.
– Всегда ношу. А сегодня, как на грех, дома оставил…
– Ну вот! Мазила…
– Свидетель, – шептал Гапон, – надо убрать.
– Уберем, – ответил Рутенберг…
Он достал ключ, отворил соседнюю комнату, и гурьбой, выставив черные мозоли пальцев, ввалились рабочие – путиловцы, обуховцы, сталевары и металлисты.
– А-а-а! – закричали они, сжигаемые яростью, и вцепились в Гапона, разрывая ему одежду, втащили его внутрь дома…
Тихо на Озерках. Ровными свечами горят на закате солнца стройные балтийские сосны. Где-то далеко стучит дятел. Шумно и мягко опадает снег с ветвей. Никто из жителей Озерков ничего не слышал в этот день марта. Ничего…
– Товарищи, товарищи! – взвыл Гапон. – Дорогие мои, любимые товарищи, боевые друзья мои… вспомните девятое января!
– Помним, – сказали рабочие. – Все помним… Молчи!
– У меня – идеи! – кричал Гапон, отбиваясь. – Я не просто так, нет! Я все делал ради торжества рабочего дела… Да здравствует революция!
– Молчи, а то пришибем сразу, как муху…
Связали. Был суд – скорый, правый, революционный.
– Подсудимому предоставляется последнее слово…
Гапон упал на колени, пополз по комнате:
– Тогда… пощады! Я недавно женился… мое прошлое… Жена не вынесет… вспомните! Ну же! Не смотрите так жестоко…
Рутенберг достал свежую папиросу.
– Я спущусь, – сказал он.
И сошел вниз, на веранду. Весеннее солнце плавилось над дачными крышами, да щелкала в бочку капель – звончайшая. В разноцветных стеклышках веранды угасал день.
Потом спустился вниз рабочий-путиловец.
– Готов, – сказал он, ломая спички в пальцах…
Рутенберг поднялся наверх. Гапон был повешен на крючке вешалки, и рядом с ним, мехом наружу, болталась его дорогая лисья шуба. Руки ему теперь развязали. Карманы все вывернули.
– Выходите, – сказал Рутенберг, – по одному…
Все ушли. Дачу закрыли. Садилось солнце.
Так закончилась эта провокация над рабочим классом. Гапона в революции не стало, но зато оставался еще Азеф.
8Декадент Минский ел, словно хороший купец с Ирбитской ярмарки; Мышецкий смотрел, как он ест и пьет, – недоумевал: «Как мог этот человек написать „Гимн рабочих“?..»
Минский спросил, наевшись:
– А какое стихотворение, по вашему мнению, лучше всего характеризует сейчас Россию?
– А ваше мнение? – спросил его Мышецкий.
Разбросав пальцы по столу, Минский закрыл глаза и прочел:
Эти бедные селенья,
Эта бедная природа —
Край великого терпенья,
Край ты русского народа,
Не поймет и не отметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В бедноте твоей смиренной…
– Хорошо, но не так, – сказал Мышецкий. – Меня больше устраивает Тютчев… Именно это:
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
А за окнами ресторана шумел Париж, все такой же ликующий и, казалось, вечно праздный. Сергей Яковлевич стыдливо прятал от публики протертые локти пиджака, часто поправлял нечистый воротничок. Декадент был перед ним барином… За большие деньги Минский состоял редактором легальной большевистской газеты «Новая жизнь», которую возглавлял Максим Горький, целиком отдавший ее страницы для пера Ленина[15]; теперь Минский бежал из России от суда и жил припеваючи – не хуже Ениколопова.
– Не надоело вам, князь? – свысока спросил поэт. – Я семит, и меня царь не помилует. А вы же самой природой позлащены достаточно, чтобы вас не задвинули в угол империи…
– Я хотел бы побывать на Афоне, – сознался Мышецкий.
– Дорога до Петербурга дешевле, – ответил Минский.
– Надо очиститься.
– Вас очистят в России… Да и к чему вам это, князь? Ну, коли хотите, ладно, – вздохнул декадент, раскрывая бумажник, – вот вам, князь… На Афон, на свечки и на девочек!
Сейчас, пока Мышецкий сидел в Париже, Уренск его лежал на плахе: судоговорение, конфирмация, расправа. «И я бессилен!..» Ениколопов пытался втащить князя в какие-то свои темные дела, но ни дела Ениколопова, ни дела его партии князя не волновали.
– Я закончил свою карьеру семнадцатого октября прошлого года, – сказал ему Сергей Яковлевич однажды. – Так не толкайте меня далее, ибо далее манифеста его величества я не тронусь с места…
Сейчас он много думал. Но размышления князя ограничивались большею частью кругом интересов его карьеры. Уренск и память о нем только путали мысли. Было больно и обидно, но сотая статья к нему все-таки не относилась. А тогда – отложим Уренск!
Почти равнодушно узнал об окончании выборов в думу – понятно, что прошел от степи султан Самсырбай (беспартийный, правый), Иконников-младший (как октябрист) и Карпухин – по инерции, приданной ему еще губернатором. «Бог с ними, – думал из Парижа, – нужна ли дума вообще? Может, Борисяк-то и прав? Все слова, слова, одни слова…»
Конечно, теперь никакая Ивонна Бурже не поможет. Спасение может прийти только сверху – вот если бы с горных высот министерства спустилась своя рука! Однако ни рука Витте, ни грубая лапа Дурново не казались дружественными.
Даже из эмигрантского далека Сергей Яковлевич замечал, что правительство перестраивает свои ряды. Наблюдалось нечто вроде шахматной рокировки. Государственный совет, чтобы противостоять Государственной думе, вдруг сдвоил свои ряды: царь заранее дал совету права, равные с правами думы.
Уже кончался апрель, когда члены Государственного совета в обновленном составе выразили свое недоверие кабинету графа Витте, и кабинет этот… пал. Роскошные премьерские палаты в запасном крыле Зимнего дворца занял новый премьер – Горемыкин, господин с очень значительными бакенбардами (больше он как-то ничем не выделялся).