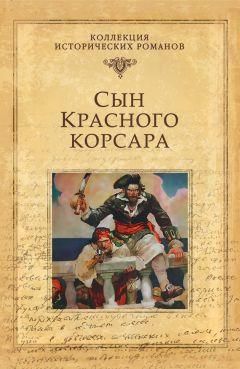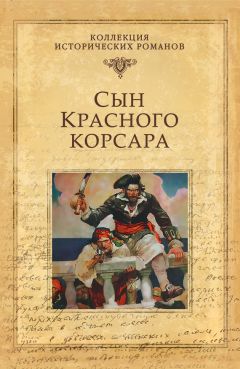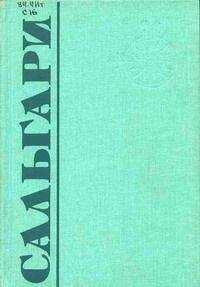А. Сахаров (редактор) - Александр I
– Не будьте несправедливы, ваше величество: слава ваша – слава России. Не встала ли она, как один человек, в годину бедствия?
– И медведица на задние лапы встаёт, когда выгоняют её из берлоги, – сказал государь, пожимая плечами опять с тою же брезгливостью. – Ну да что об этом? Им подо мною легко, да мне-то над ними тяжко – тяжко презирать своё отечество. Веришь ли, друг, такие бывают минуты, что разбить бы голову об стену!
Что-то промелькнуло в глазах его, от чего опять показалось Голицыну, что вот-вот заговорит он о звере, грызущем его внутренности; но промелькнуло – пропало, и заговорил о другом.
– Помнишь, что я тебе сказал, когда подписывал акт о престолонаследии?
– Помню, ваше величество.
– Ну так понимаешь, к чему веду?
Манифест об отречении Константина Павловича от престола и о назначении Николая наследником подписан был осенью в Царском Селе. На запечатанном конверте государь сделал надпись: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до моего востребования, а в случае моей кончины открыть прежде всякого другого действия». Знали о том только три человека в России: писавший этот манифест Голицын, Аракчеев и Филарет, архиепископ московский. Тогда же произнёс государь несколько загадочных слов о своём собственном возможном отречении от престола. Голицын удивился, испугался и понял, что слова на конверте «до моего востребования» означают это именно возможное отречение самого императора Александра Павловича.
– Понимаешь, к чему веду? – повторил государь.
– Боюсь понять, ваше величество…
– Чего же бояться? Солдату за двадцать пять лет отставку дают. Пора и мне. О душе подумать надо…
Голицын смотрел на него с тем же испугом, как тогда, в Царском Селе: отречение от престола казалось ему сумасшествием.
– Давно уже хотел я тебе сказать об этом, – продолжал государь, – ты так хорошо написал тогда; попробуй, может, и теперь удастся?
– Увольте, – пролепетал Голицын в смятении. – Могу ли я? Подымется ли у меня рука на это? И кто поверит? Кто согласится? Да если только, Боже сохрани, народ узнает о том, подумайте, ваше величество, какие могут быть последствия…
– А ведь и вправду, пожалуй, – усмехнулся государь так, что мороз пробежал по спине у Голицына: вспомнилась ему усмешка императора Павла, когда он сходил с ума. – Не поверят, не согласятся, не отпустят живого… Как же быть, а? Мёртвым притвориться, что ли? Или нищим странником уйти, как те, что по большим дорогам ходят, – сколько раз я им завидовал? Или бежать, как юноша тот в Гефсиманском саду, оставив покрывало воинам, бежал нагим? Так, что ли? А?..
Говорил тихо, как будто про себя, забыв о Голицыне; вдруг взглянул на него и провёл рукой по лицу.
– Ну что? Испугался, думаешь, с ума сошёл? Полно, небось пошутил, мёртвым не прикинусь, голым не убегу… А об отречении подумай. Да не сейчас, не сейчас, не бойся, может, ещё и не скоро. А всё же подумай… И спасибо, что выслушал. Некому было сказать, а вот сказал, – и легче. Спасибо, друг! Я тебя никогда не забуду.
Встал, обнял его и что-то шепнул ему на ухо. Голицын отпер потайной шкапик в подножье кресла, вынул золотой сосудец, наподобие дароносицы, и плат из алого шёлка, наподобие антиминса.[203] Разложил его на плащанице и поставил на него дароносицу.
Поцеловались трижды с теми словами, которые произносят в алтаре священнослужители, приступая к совершению таинства:
– Христос посреди нас.
– И есть, и будет.
Опустились на колени, сотворили земные поклоны и стали читать молитвы церковные, а также иные, сокровенные. Читали и пели голосами неумелыми, но привычными:
Ты путь мой, Господи, направишь,
Меня от гибели избавишь,
Спасёшь создание своё, —
любимую молитву государя, стихи масонской песни, начертанные на образке, который носил он всегда на груди своей; пели странно-уныло и жалобно, точно старинный романс.
– Не отверже мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене! – воскликнул государь дрожащим голосом, и слёзы потекли по лицу его, в алом сиянье лампады, точно кровавые. – Не отыми, не отыми! – повторял, стуча лбом об пол с глухим рыданием, в котором что-то послышалось, от чего вдруг опять мороз пробежал по спине у Голицына.
Голицын встал и благословил чашу её словами, которые возглашал иерей во время литургии, при освящении Даров:
– Приимите, идите: сие есть Тело Моё, за вас ломимое…
И причастил государя; потом у него причастился.
Если бы в эту минуту увидел их Фотий, то понял бы, что недаром изрёк им анафему.
Священник из города Балты, уроженец села Корытного, о. Феодосий Левицкий,[204] представил государю сочинение о близости царствия Божьего. Государь пожелал видеть о. Федоса. На фельдъегерской тележке привезли его из Балты в Петербург, прямо в Зимний дворец. Он-то и научил государя этому сокровенному таинству внутренней церкви вселенской, обладающему большею силою, нежели евхаристия, во внешних поместных церквах совершаемая. И государь предпочитал, особенно теперь, после анафемы Фотия, это сокровенное таинство – явному, церковному.
Причастившись, прочли молитву, которой научил их тоже о. Федос, о спасении всего рода человеческого, о исполнении царства Божьего на земле, как на небе, о соединении всех церквей во единой церкви вселенской.
– Спаси, Господи, мир погибающий! – заключалось каждое из этих прошений.
Поцеловавшись трижды поцелуем пасхальным: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!», – заперли в шкапик дароносицу с антиминсом и вышли в кабинет.
Холодный свет дневной ослеплял после алого тёплого сумрака, как будто перешли они из того мира в этот. И лица изменились: вместо таинственных братьев церкви невидимой опять – царь и царедворец.
Заговорили о делах житейских.
– А кстати, Голицын, просил я намедни Марью Антоновну не принимать князя Валерьяна, племянника твоего. Не знаю, о чём они говорят с Софьей, но беседы эти волнуют её, а ей покой нужен. Скажи ему, извинись как-нибудь, чтоб не обиделся.
– Помилуйте, ваше величество! Смеет ли он?
– Нет, отчего же?.. Кажется, добрый малый и неглупый; а только с этим нынешним вольным душком, а?
– Ох, уж не говорите, государь! Наградил меня Бог племянничком. Сущий карбонар. Волосы дыбом встают, как этих господ послушаешь. Вы себе представить не можете, на что они способны. В Сибирь их мало!
– Ну полно, за что в Сибирь? Жалеть надо. Наши же дети, и с нас, отцов, за них взыщется…
Опять промелькнуло что-то в глазах его; опять показалось Голицыну, – вот-вот заговорит он о главном, единственном, для чего, может быть, и весь разговор этот начал.
Но промелькнуло – пропало, и Голицын понял, что никогда ничего не скажет он, хотя бы страшный зверь загрыз его до смерти, – будет терпеть и молчать.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Князь Александр Николаевич Голицын передал племяннику своему, князю Валерьяну, волю государя о том, чтобы он перестал бывать у Нарышкиных. Но Марья Антоновна, узнав об этом, объявила, что не хочет лишать свою больную, может быть, умирающую дочь последней радости, и просила князя бывать у них по-прежнему, обещая взять на себя перед государем всю ответственность. С женихом Софьи, графом Шуваловым, поссорилась и говорила, что если бы даже Софья выздоровела, то государь как себе хочет, а она ни за что не выдаст дочь за этого «проходимца»: во вражде своей была столь же внезапна и неудержима, как в любви.
Так решила Марья Антоновна, так и сделалось, князь Валерьян продолжал посещать Софью, стараясь только не встречаться с государем. Избегая этих встреч, уезжал в Петербург, где проводил большую часть времени с новым другом своим, князем Александром Ивановичем Одоевским; из членов тайного общества сошёлся с ним ближе всех.
Двадцатилетний корнет, красавец – розы на щеках, лёгкие пепельные, точно седые, кудри, голубые глаза, всегда немного прищуренные с улыбкою, – «красная девица», говорили о нём в полку. Казалось бы, ему не заговорщиком быть, а в пятнашки играть и бабочек ловить с такими же детьми, как он.
– Я от природы беспечен, ветрен и ленив, – говорил сам о себе, – никогда никакого не имел неудовольствия в жизни; я слишком счастлив.
Сорвём цветы украдкой
Под лезвием косы,
И ленью жизни краткой
Продлим, продлим часы, —
это о таких, как я, сказано.
Среди пламенных споров о судьбах России, о вольности, о «будущем усовершении человечества» молчал, усмехался, потом вдруг вскакивал, хватал свой кивер с белым султаном. «Куда ты?» – «На Невский». И гремел по тротуару саблею с таким легкомысленным видом, как будто, кроме гуляний да парадов, ничего для него не существует. Или сладкими пирожками объедался в кондитерской, как убежавший с урока школьник.