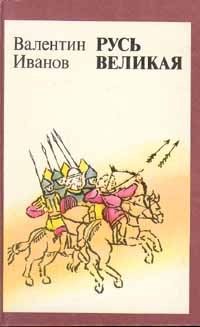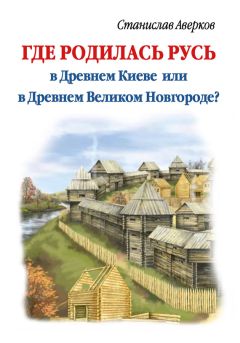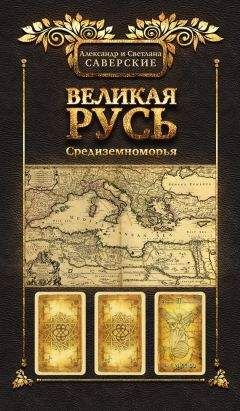Андрей Упит - На грани веков
— Мне говорили, что ты будто страх как силен и смел. А как насчет погрома, который вы учинили в замке? А насчет сожженного дома управляющего?
— Я ни замок не громил, ни дом управляющего не поджигал.
— Конечно-конечно, он сам собою загорелся, а окна сами разбились. Ко всему ты еще и умен, кузнец, и я тебе верю. Конечно, ты ничего не знаешь и о том, кто убил в лесу Холгрена и кто переломал ноги старосте.
— Старосту камнем придавило, никто в этом не виноват, кроме него самого. А кто эстонца убил, никому неведомо, зимой лесорубы выкопали его из-под снега, мерзлого, как пень, и лисами обгрызенного.
— Ах, так ты думаешь, никто? Ну, а если у меня имеются люди, которые знают и смогут свидетельствовать? А что, если я сегодня же вечером прикажу тебя связать и бросить в подвал, чтобы ты не мог убежать до приезда суда?
— Меня никто не смеет трогать, я служил в русской армии.
Он вытащил свою бумагу и, как в прошлый раз тому немцу, сунул ее барыне под нос. Но она только кинула небрежный взгляд.
— И о твоих бумагах наслышана, я ведь только пошутила. Сегодня я и не думала бросать тебя в подвал. В русской армии ты потому и был, что всегда норовишь попасть туда, где можно убивать и грабить. Но только я еще слыхивала, что ты как-то ходил на войну и к эстонской границе. А это ведь по-другому звучит, нежели вместе с русскими, не так ли? Уж тут-то тебе не помогут ни бумаги, ни твои мужицкие плутни; в бараний рог тебя согнут, шелковым станешь! А теперь — вон с моих глаз! Не смерди тут!
Когда дверь закрылась, баронесса откинулась в кресле, стукнула обоими кулаками по столу и всем нутром, точно разорванные мехи, испустила протяжный вздох — э-эх!
Холодкевич встал.
— Милая, ты поступаешь опрометчиво, напрасно угрожая ему и настраивая против себя. Это опасный человек, ты его еще не знаешь.
«Милая» смеялась, точно увидев нечто забавное.
— Тебя, милый, страшит любая девка-скотнииа, которую ты выгнал из своей постели и которая поэтому грозится выцарапать тебе глаза. Этот разбойничий главарь будет у меня болтаться на сосне под самым окном. И все его дружки рядом повиснут. А остальных прикажу драгунам драть так, чтоб они и не встали больше. Я выжгу это змеиное гнездо, что ты тут развел, пускай хоть половина их передохнет. В Атрадзене у нас народу хватит.
Холодкевич только махнул рукой, вздохнул и ушел в дальнюю комнату.
Слушая Мартыня, рассказывавшего о своем хождении к барыне, Инта сидела на кровати поникнув, все больше сутулясь. Выслушав, глухо спросила:
— Что же нам теперь делать?
Мартынь долго не отвечал.
— Придется в Ригу идти, к судьям. Холодкевич говорит, что нет такого закона запрещать жениться.
Потом они долго сидели, угрюмые, потеряв всякую надежду, угнетаемые призраками страшного будущего. Инта, подперев голову, тупо уставилась в пол, Мартынь глядел в окно, за которым темень стала еще непрогляднее.
На другой день Холодкевич, ехавший верхом по дороге от кирпичного завода, придержал коня у кузницы. Когда Мартынь вышел, он сказал без всякого предисловия:
— Беги в Ригу, пока не поздно, это для тебя единственное спасение. К счастью, рижские бюргеры добились себе старых прав. Ты ведь и сам знаешь, сколько несчастных видземских мужиков нашли там себе убежище.
— Да как же бежать-то, барин? Разве же я могу Инту с Пострелом бросить? Перво-наперво нам надо достать дозволение жениться.
Холодкевич пожал плечами и пришпорил коня.
— Как знаешь. Только потом не кусай локти.
В тот год стояло солнечное лето и наступила ранняя осень. Клюква во мхах у Черного озера покраснела еще на Варфоломея, барыня по воскресеньям и после обеда посылала дворовых баб и девок собирать ее, чтобы мужики воровским образом не успели обобрать весь бор дочиста. Первый раз Мильда не ходила с ними. Она почти поправилась, только скособочилась, да так и не разогнулась: верно, розга кучера перебила какую-то жилу, а старой Лавизы, которая в таких случаях умела вправить и перевязать как следует, уже не было на свете. Стала она необычайно молчаливой, замкнулась в себе, ни с кем не говорила. Марча прогнала спать на сеновал к пастушонку. Барыня оставила ее в покое. Плетюганиха даже в дружбу набивалась, только Мильда делала вид, что и не замечает ее. Но в середине недели Мильда внезапно ожила, опять стала разговорчивой, в особенности начала интересоваться клюквенными местами в окрестностях озера; в следующее воскресенье пошла вместе с остальными бабами и притащила такую торбу, что даже барыня ее похвалила. Старостиху так и корежило от зависти: ишь ты, выпоротая телка к барыне подладиться хочет, доказать, что и она кое-что умеет делать почище самой старостихи. Тайком старостиха принялась выведывать у баб, где же Мильда набрала эту клюкву. Но в субботу, когда старуха по привычке украдкой подглядывала из окна замка, ключникова жена, сама того не ведая, выдала секрет. Так и хвалилась во весь голос перед Бертулиене: будто бы место это там, где березы у самого озера, а в воде большой пень, его даже из шалаша углежога видать. А уж ягоды там — хоть горстями греби, и каждая ягодка вот — с ноготь, и барыня ее за это похвалила!.. Завтра после полудня она опять постарается отделиться от остальных и наберет торбу уже с верхом.
В воскресенье утром, сразу же после завтрака, господа уехали в Лауберн — Винцент фон Шнейдер пригласил их на охоту. В таких случаях челядь могла свободно вздохнуть и отоспаться, потому что и домоправительница с горничной хотели отдохнуть от вечной ругани, спешки и слежки. В имении стояла такая тишина, точно и куры, воспользовавшись редкостным случаем, уселись на насест. Но на сей раз одна Плетюганиха не легла в постель. Отыскала большущую торбу и торопливо зашила в ней дыры. Она решила доказать, что может добиться большего, чем какая-то выпоротая телка, только поторапливаться надо, пока остальные не набрели и не обобрали лучшие места.
К этому времени у шалаша углежога из леса выбрался какой-то странный человек. Невысокого роста, но довольно полный, особенно в бедрах. Как и на всех — кафтан, до колен онучи, перевязанные оборами, голова большая, на ней не то шапка, не то платок, только нос да скулы видать. Человек принялся возиться возле шалаша, как у себя дома. Бояться ему было нечего: углежог, он же и смолокур, нечаянно упал в торфяную гарь, которая и посейчас еще тлела, и теперь, охая, лежал на господском сеновале с обожженными ногами. В шалаше пришельцу, очевидно, ничего не надо было, он только забрал две жерди потолще и одну потоньше, перекинул их через плечо и потащил по излучине озера к тому месту, где березы у самой воды, а кочки прямо бурые от ягод, сверкающих на раннем солнце. В нескольких шагах от берега из воды торчал огромный пень, точно медведь, раскинувший лапы. Видимо, у этого человека был в своем деле немалый опыт и хороший глазомер. Он тщательно прикинул расстояние, поглядывая на жерди, затем перебросил одну тонким концом на пень, за нею — вторую. Третью, тонкую, он взял в руки и, встав боком, скользя подошвами по этому мостку из двух жердей, добрался до пня. Сидя там, он поправил мостки, затем поднял тонкую жердь и окунул ее в омут. Шест отвесно погрузился до самого конца, даже рука ушла в воду. Человек кивнул головой. Недаром люди говорят, что в этом месте Черного озера дна нет.
Мерку человек отнес назад к шалашу, а вместо нее взял из груды увесистый камень. Видимо, был он очень тяжелый, трижды опускал человек его на землю, каждый раз с минуту отдыхая, пока, наконец, добрался до того же места. Здесь он положил камень на мостки и, стоя на коленях, ползком вкатил его на пень. Из-за пазухи вытащил длинную, выкованную кузнецом Мартынем цепь, обвязал вокруг камня, оставив большую петлю, затем перебрался назад и исчез в лесу.
Полчаса спустя к шалашу углежога сломя голову примчалась Плетюганиха. Свернула с гати во мхи, где уже сверкала клюква, но не остановилась: она же знает место, где ее горстями греби. Дошлепала до березы, сквозь молодняк — до сосенок и непроходимой топи и, ворча, вернулась назад. Непохоже, что клюквы тут видимо-невидимо, — совсем забыла, что стоя ее не видишь. И только когда наклонилась, увидела все изобилие, даже то, что таится в ямках, под сломанной полевицей и под кочками. Плетюганиха довольно заворчала, развернула мешок и принялась собирать ягоду обеими руками. Нет, она не собирала, она загребала, она цапала, она рвала, захватывая с ягодами и белые клочки болотного мха. Пусть знают и выпоротая Мильда, и барыня, что есть такие, кто и на большее способен. Нет, эта поротая подлюга не наврала, такая уйма клюквы в редкие годы бывает. Светлая и темно-красная, белесая и фиолетово-черная, все с белыми подбрюшками, ягодка к ягодке, точно нанизанные на еле видимую шелковую нитку, точно раскиданные по кочкам ожерелья. И снова густыми пятнами, точно кто-то побывал уже здесь и щедро рассыпал из туеса горстями, столько набросал, что у доброй старостихи торба скоро наполнится. Все время она ползала лицом к лесу. Но вот пошли кочки покрупнее, перегибаться через них проку мало. Плетюганиха разогнулась, чтобы перейти на другую сторону, и увидела чудные мостки, перекинутые с берега на огромный пень. Любопытство на миг пересилило ягодный азарт, она подошла взглянуть на них и наверняка ничего не поняла. Когда попробовала ногою, не прогибается ли жердь, в березняке над кустом крушины поднялся человек, перекидывавший мостки; он вскинул руки, казалось, еле-еле удержался, чтобы не предостеречь окриком. Видно, сердце у него было доброе и он боялся, как бы Плетюганиха не упала в воду и не утонула. Старостиха махнула рукой и вернулась к своему мешку: углежогу лучше знать, на что ему этакое сооружение. На этот раз она повернулась спиной к лесу, обирая противоположные стороны кочек, где ягод оказалось еще больше. А клюквы было столько и торба наполнялась так быстро, что Плетюганиху обуяла понятная каждой ягоднице страсть и жадность — еще, еще, мало, еще! Из-под самых скрюченных пальцев в кочку нырнула серая гадюка, но Плетюганиха и эту кочку обобрала, сплюнула, чертыхнулась и пошла хватать дальше.