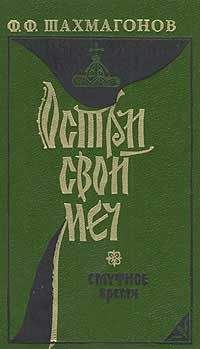Юрий Когинов - Татьянин день. Иван Шувалов
— Угадали, Иван Иванович. Я-то, старый дурень, полагал, что никогда не догадаетесь, что кажинный день на картину свою любуюсь. И вспоминаю, каким был тогда молодым и сильным.
Взяв под руку слугу, Иван Иванович подвёл его к полотну, что висело в простенке между двумя венецианскими окнами На полотне том была изображена карета, почти сорвавшаяся в горную пропасть, и высокий и сильный гайдук, который подставил своё плечо под экипаж, спасая его от неминуемой гибели.
— Кажинный раз, подходя к сему полотну, я вспоминаю всё, что случилось тогда с нами в Италии. И верите, Иван Иванович, до сих пор чувствую страх за вашу жизнь. И молю Господа за то, что спас вас тогда.
— Да, Господу было угодно, чтобы мы не погибли, — произнёс Шувалов. — Но ведь то ты, друг мой верный, спас тогда мою жизнь! Страх, говоришь, чувствуешь, когда останавливаешься возле сей картины? А в тот день, когда лошади понесли в горах и карета одним колесом зависла над стремниною, страха у тебя нисколечко не оказалось. И если бы не ты, вряд ли я был бы живым. Так что и я, всякий раз проходя мимо сего полотна, останавливаюсь и вспоминаю тот день. И — произношу слова благодарности тебе, моему верному слуге.
— Да как же можно, чтобы мне — и благодарность, ваше высокопревосходительство? — прослезился бывший гайдук. — Довольно и того, что мне, старому и уже к службе негодному, положили вы до конца моей жизни милосердное иждивение. А уж о том, что в италийских краях вы заказали картину о сём происшествии и меня живописцы ихние изобразили как живого, я и не говорю. Тому никто не верит, чтобы меня, человека низкого звания, да ещё — словно на икону! Нет, такого, говорят, никто и вообразить себе не способен. Только вот жаль, если сей вид вскоре уйдёт из дома. К кому же мне тогда приходить по утрам и произносить долгие лета вам, моему родному отцу и господину?
— Что ж, сие полотно — в твою честь. Значит, этой картине ты и хозяин, — сказал Шувалов. — Пусть доживает она с нами, обоими стариками, там, где и определили мы ей место. Согласен?
Внезапно дверь отворилась, и вошёл камердинер.
— Там, внизу, — человек. Назвался неким бароном Фёдором Ашем. Просит, чтобы ваше высокопревосходительство его непременно приняли.
— Проведи барона в гостиную, а я пока пойду переоденусь, — распорядился Шувалов.
Когда Иван Иванович вошёл в гостиную, он увидел там человека в мундире бригадира. Под рукою у него была треугольная шляпа с золотым галуном, но выглядел он тем не менее несколько затрапезно. Но что смутило Шувалова, так это то, что посетитель быстрым шагом подошёл к нему и вдруг упал на колени, одновременно схватив шуваловскую руку как бы для поцелуя.
— Что с вами, сударь мой? — остановил его хозяин дома. — Я не имею чести вас знать. И притом это ваше поведение... Что сие значит, какое дело привело вас ко мне?
— Какое, вопрошаете, дело? — воскликнул назвавшийся бароном. — Самое что ни на есть важное. Вот все они должны теперь стать свидетелями того, что я пришёл к вам затем, чтобы открыть великую тайну, о коей ни вы, никто другой ещё не знает.
И человек, вскочивший на ноги, повернулся лицом к стене и указал рукою на портреты, на ней развешанные. То были лики трёх императриц — Анны Иоанновны, Елизаветы и Екатерины Второй.
— Да, пред ними, почившими в Бозе государынями, я должен открыть тайну вашего рождения, а лучше сказать, вашего царского происхождения! — вновь воскликнул посетитель и протянул Шувалову скреплённый сургучными печатями пакет. — В нём, сём пакете, — подлинные свидетельства происхождения вашего императорского высочества.
Всё в глазах Ивана Ивановича потемнело, и он схватился за спинку стула, чтобы не упасть.
— Как?.. Как вы сказали? — едва слышно промолвил он. — «Ваше императорское высочество»? Да вы, сударь, в своём ли уме? Я вынужден тотчас вызвать своих людей, которые вас немедленно отправят в сумасшедший дом, из коего вы, несомненно, только что сбежали.
— Не следует никого звать. И тем более считать меня не в своём уме, — остановил Шувалова барон. — Я в самом деле тот, за кого себя и выдаю, — барон Аш, сын барона Фридриха фон Аша, моего родителя, который пред своею смертью написал это письмо и взял с меня слово передать его вам в собственные руки.
Иван Иванович нерешительно принял конверт и тут же вернул его назад, Ашу.
— Здесь явное недоразумение, — сказал он. — На конверте значится: «Его императорскому высочеству». При чём же здесь я?
— При чём здесь вы? — повторил посетитель. — А при том, что вы и есть ваше императорское высочество, а, простите, никакой не Иван Иванович Шувалов. Впрочем, извольте открыть пакет, и тогда вы убедитесь в совершенной правдивости моих слов.
Шувалов нетерпеливо сломал печати и вынул из конверта лист, из которого сразу же бросились в глаза слова, выведенные чётким каллиграфическим почерком:
«Глубокая старость моя — мне уже 85 лет от роду — и здоровье моё, от времени до времени упадающее, отнимают у меня надежду дожить до того радостного дня, когда ваше императорское высочество, по счастливом возвращении в государство ваше, с помощью всемогущего Бога, вступите на всероссийский императорский престол, к несказанной радости всех ваших верноподданных...»
— Что за фантазии, что, извините, за бред осмелились вы мне вручить? — Шувалов с раздражением бросил на стол письмо.
— Прошу вас, не гневайтесь. — Барон молитвенно сложил на груди руки. — Извольте прочесть послание моего родителя до конца. И тогда вам станет ясно, что вы ведёте своё происхождение от государя и царя всероссийского Иоанна Алексеевича, а значит, и от императрицы Анны Иоанновны, вашей родной матушки.
Вновь пелена беспросветного тумана заволокла взгляд Ивана Ивановича, и он, боясь, что потеряет сознание, опустился на стул.
«Господи! Да надо же такое сочинить, чтобы теперь, в конце моей собственной жизни, обрушить на мою голову! Моя родная матушка, выходит, не Татьяна из рода Ратиславских, а сама императрица Анна Иоанновна, дочь царя Иоанна Алексеевича, сводного брата императора Петра Великого! Тогда кто же мой отец, коли я — не Шувалов?»
Последние слова он произнёс вслух и тотчас получил ответ, который чуть ли не сразил его насмерть.
— Ваш родитель не кто иной, как светлейший герцог Курляндский и Семигальский, бывший регент Российской империи.
— Как? Вы хотите сказать: Бирон? — чуть не задохнулся Шувалов.
— Именно так, ваше высочество, — произнёс барон. — О том как раз и говорится в письме моего родителя, коий когда-то, во время вашего появления на свет, служил в Митаве. А затем — и здесь, а Санкт-Петербурге, сначала при императорском дворе, а позже состоял почт-директором. И он знает, как вас отдали в семью гвардии капитана Ивана Максимовича Шувалова. Отдали на усыновление. И потому выбрали дворянина по фамилии Шувалов, что вас, ещё малым ребёнком, ваш родной отец герцог Бирон любил катать верхом на лошади. А лошадь, как вам хорошо ведомо, по-французски и будет: «шеваль». Отсюда — и всадник, то есть «кавалер». Вот по созвучию и выбрали вам родителя — капитана Шувалова. Только отныне вы знаете, кто вы на самом деле и к какой подлинных царских кровей августейшей фамилии принадлежите по своему рождению и праву.
Нет, никак не возможно было с сим признанием согласиться. Однако пред Иваном Ивановичем невольно возникла в памяти фигура Бирона и весь с ним разговор при давней, тому уже четверть века, встрече в Митаве. Да, герцог принял тогда его в высшей степени учтиво и подчёркнуто любезно. Однако ни единым словом, даже ни малейшим намёком не дал понять того, о чём сказал только что неожиданный пришелец. Неужто герцог продолжал скрывать то, что многие годы было для всех строжайшей тайной? И даже при той встрече не решился её открыть, так сказать, родному сыну?
«А может, он и сам твёрдо не знал того, как она, родная моя мать, распорядилась со своим сыном? — вдруг страшная мысль пронизала Ивана Ивановича. Мысль, которую он не хотел и не мог допустить, но коия неожиданно родилась и против его воли вошла в сознание. — Я же, к примеру, так и не увидал той, что, по всем догадкам, могла быть моею родной дочерью! А как я хотел с нею встретиться, прижать её к своей груди. Но до сей поры я не уверен, что та могила, на которой я всё же в Италии побывал, — её. Однако не мою ли родную кровиночку заманил в свои сети Алёшка Орлов, и она окончила свои дни узницею в Петропавловской крепости? Впрочем, до меня доходило, что дочь Елизаветы и, по всей вероятности, также и моя под именем Досифеи долгое время томилась в каком-то монастыре. Вот такой нелепой, запутанной оказалась история существа, коего я искал, тайну которого хотел открыть, чтобы спасти и сохранить её жизнь. Может, и моя тайна — здесь, в этом странном письме, словно пришедшем из другого, совершенно незнакомого мне мира? Нет, я не могу, я не должен поверить сей выдумке. И мой долг: не медля ни одной минуты, встать и ехать во дворец к императору, чтобы положить конец сей истории».