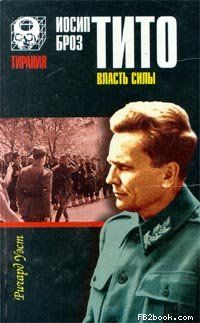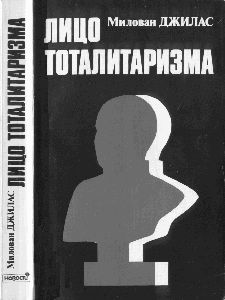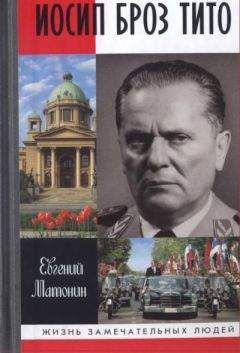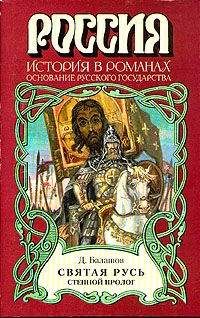Дмитрий Балашов - Святая Русь. Книга 3
Он едва сдержал себя, когда сажались в лодьи, заставил остаться здесь, на рязанском берегу, до возвращения первых лодей, дабы отплыть, как и пристойно старшому, с последними кметями своей дружины, своих молодцов, с которыми сроднился в пути и у которых, почитай у всех, видел сейчас в очах тот же неистовый истомный зов родины. Сейчас — еще сейчас! — они будут цепляться друг за друга, резаться насмерть с врагом, защищая товарища, не бросят раненого в пути, похоронят, ежели кто падет в бою или инако погинет, а достигнув Москвы, разбредутся, словно и позабыв друг о друге, как капли влаги, достигшие родной стихии и без остатка растворенные в ней. О доме мало и говорили нынче. Ждали. И сам Иван ждал, закаменев.
В Коломне удалось наконец добраться до бани, свирепо выпариться, вычесать волосы от гнид, пропарить одежу, переменить исподнее, добраться до столов, до щей, до сытной вологи, — дорогою прискучила почти постоянная сухомять! И только уже поздно вечером, устроив своих, Иван, небрегая навалившею усталью, устремил на поиски родни-природы, ставшего ему в этот миг близким и милым коломенского зятя и сестры.
С зятем, уколовшись о его проволочную бороду, облобызались, как два старых друга. Зять тотчас поволок за стол, отмахнувшись от Ивановых объяснений, что, мол, только что от столов и зашел на погляд. Любава гордо плавала по терему, когда целовал, склонила голову, зарозовев. Не сразу узрел ее вздетый под саяном живот и налившиеся груди.
— Сына ждем! — радостно пояснил зять.
Последовали пироги, холодная, с ледника, кулебяка, пьяный мед и перебродивший хмельной квас, стерляжья икра и заедки. Они пили, хлопали друг друга по плечам, орали песню. Иван вылезал из-за столов, вновь и вновь поцеловать разрумянившуюся сестру, цеплял ложкою тертый хрен, снова пил, уже сбиваясь со счета, невесть которую чару и уснул, едва добредя до роскошного, на свежей соломе, застланной рядном и полосатым ордынским тюфяком ложа, чуя только, что Любава заботно укрывает его овчинным шубным одеялом и шепчет что-то милое, почти детское, как когда-то государыня-мать.
Утром с перееда была тяжесть в черевах, кружило голову, пока не поправились оба-два, опрокинув по чаре давешней медовухи.
Тут вот, за утреннею трапезой (пора было бежать к своим, и потому много не пили), и рассказал Иван о встрече с двоюродником и остерегающих словах Васьки. К кому идти? К самому Василию? Дак тут неведомо как примут его. известие!
Зять решительно помотал головой:
— Софья Витовтовна прознает, со свету тебя сживет, и службы лишиться придет, и Островое, гляди, отберут! Да ить и так-то подумать мочно: каки-таки у тебя причины полагать, что братанич твой правду бает? Отколь ему, сотнику, знать, о чем хан с великим князем литовским сговаривали? Може, пустой слух какой? Да и не лезь ты в етое дело, не лезь! Пущай о том у великих бояринов головы болят!
Договорились едва не до ссоры. Не убедил Ивана зять, а задуматься заставил. И пока ехали до Москвы, все об одном этом и думал: к кому теперь? Кто поверит и не остудит, не предаст? Был бы жив Данило Феофаныч! Намерил, в конце концов, толкнуться к Александру Миничу. Все же из Орды бежали вместях, должон понять! Да он и боярин великий, пущай тамо, в думе государевой, скажет кому…
На Москве празднично били колокола. Наплавной мост через Москву-реку гудел и колебался под копытами. Пришлось попервости заворотить на княжой двор, отстоять службу, отчитаться перед боярином, томительно долго сдавать казенную рухлядь, оружие и коней и только после всего того, сердечно распростясь со спутниками, порысил к дому, только тут тревожно помыслив о своих: живы ли? Не заболел ли который? Не лежит ли государыня-мать в болести какой?
Мост через Неглинку, знакомая улица. Ворота, столбы которых сам украшал прихотливою резьбой. Отрок возится в луже, пускает кораблики, обернувшись, недоуменно смотрит, потом стремглав бежит к дому, оглядываясь опасливо на верхоконного темно-загорелого кметя, кричит:
— Баба, баба, приехали!
Никак Сережка? С падающим сердцем Иван подъехал к воротам. Створы отворились со скрипом, и первое, что узрел, — улыбающаяся рожа Гаврилы:
— Из утра сожидали! — Принял повод. Иван соскочил с коня.
Государыня-мать вышла на крыльцо. Ванята кинулся к нему на грудь, весь вжался лицом, вихрастою головою, замер:
— Тятя, тятя!
Сережка стоял посторонь, со слезами на глазах. Тоже бормотал: «Тятя, тятя приехал! » — стыдно было, что враз не признал отца. Иван приобнял его свободной рукою, привлек к себе. Шагнул встречь матери, поклонил ей в ноги. Она церемонно ответила на поклон сына, потом, всхлипнув в свой черед, приникла к его груди. Оглаживая материны плечи загрубевшей рукой, чуял истончившиеся кости, обветшавшую материнскую плоть, и у самого горячо становило в глазах и щекотно от слез.
— Ну, будет, будет, мамо! — повторял. Женская прислуга — две девки и стряпея, выбежавшие на крыльцо, улыбаясь во весь рот, глядели на воротившего из дальнего пути господина.
Вечером, выслушавши Ивана, государыня-мать задумалась.
— Вота што! — высказала наконец. — В первый након к Тимофею Василичу сходи! Помнит тебя старик! После него — к Федору Кошке! Зерновых всех обойди, Федора Кутуза, Квашниных, сынов Данилы Феофаныча навестить надобно, Плещеевых…
— Не бросить ли мне етого дела, мать? — спросил грубо Иван, откладывая ложку и отодвигая от себя опорожненную мису.
— Как знашь, сын! А батька твой не бросил бы ни за што, упорен был во всяком дели!
Вспомнила вдруг, как карабкался к ней в вельяминовский терем. Скупая улыбка осветила иссохшее строгое лицо.
Иван опустил глаза. Материн укор выслушал молча. А ночью почти не спал, думал: «А ну как и вправду бросить, не заботить себя боярскою печалью! » Так и так поворачивал. Вставал, пил квас, глядел на раскинувшихся посапывающих детей. К самому утру понял: ежели бросит, самому с собой худо станет жить, детям и то в очи не глянуть! И далее делал все как камень, выпущенный из пращи, — обходил терем за теремом, проникая туда, куда и не чаял бы пробиться в ину-то пору, и, кажется, расшевелил-таки сильных мира сего.
Тимофей Василич первый взял в слух сказанное Иваном. Отложил «Измарагд», который читал, сильно щурясь и отодвигая книгу от себя (глаза к старости стали плохо видеть близь), выслушал молча, покачивая головою. Долго молчал, высказал наконец:
— От Витовта всего ожидать мочно! Однако чтобы Русь… Да знаю, знаю! — отмахнул рукою на раскрывшего было рот Ивана. — Смоленск у нас под носом забрал, ведаю! Ты вота што, — он строго глянул в очи Ивану.
— Меня одного не послушают. Ты-ка первее всего к Федору Андреичу Кошке сходи, поклон скажи от меня! Потом — к Костянтину Митричу…
Иван лихорадочно кивал и кивал каждому новому имени, запоминал, боясь перепутать, бояр, чуя, что вот оно, подошло! А Тимофей Василич (лукавые морщинки собрались у глаз), закончив перечень, присовокупил:
— Наше дело стариковское, на припечке сидеть да старые кости греть! А ты молод, вот и побегай — тово! Нас, старых сидней, потормоши!
У Федора Кошки развернулась целая баталия, заспорили отец с сыном.
Иван с любопытством оглядывал старый Протасьев терем, отмечая новизны, привнесенные новым хозяином: восточное ковровое великолепие, дорогое, арабской работы, оружие, развешанное по стенам, — дамасские и бухарские кривые сабли в ножнах, осыпанных рубинами и бирюзой, парчовые дареные халаты, тоже словно бы выставленные на показ, чеканную серебряную, восточной работы, посуду на полице и поставцах, расписные ордынские сундуки, — меж тем как Федор Кошка, почти позабывши о госте, сцепился со своим взрослым сыном, Иваном.
Иван, высокий, на голову выше отца, презрительно пожимал плечами:
— Темерь-Кутлуй от Темир-Аксака ставлен! Сам знашь, новая метла… А Тохтамыш сто раз бит, дак потишел, поди! А нам хана менять не по пригожеству! Пущай Витовт хоша и на стол его вновь возведет, дак куды он без Руси денетсе? Ему без нашей дани дня не протянуть и на столе не усидеть! А енти два головореза, што Темерь-Кутлуй, што Едигей, чего еще выдумают!
— А отобьютсе?! — подначивал отец.
— А отобьютсе, нам же лучше! Тогда и пошлем с подарками, мол, от Руси поклон вам низкой! И Витовт-князь тогда нас не устрашит, и Василий будет в спокое!
— Красно баешь! — возражал отец. — А одолеют Витовт с Тохтамышем? И соберет хан татар погромить, вкупе с литвою, русский улус, и вас, дурней, погонят на ременных арканах в Кафу, на рынок! А твоя Огафья придет какому ни на есть литвину поганому в рабыни, да, да! Не заможет уже шемаханских шелков носить! В жидком свином дерьме босыми ногами… Не веришь? А я вот Тохтамышу не верю, ни на едино пуло медяное, што покойнику в гроб кладут!
— Сам же ты…
— Сам же я юлил перед ханом, хочешь сказать? Дак говори, щенок! Кабы я не юлил, святую Русь кажен год татары громили, всю волость испустошили бы вконец! В берлогах бы жили последние русичи, в схронах, в землянках лесных! И такие, как ты, не величались бы богачеством, што твой отец заработал за много годов на службе княжой! Не пенязи, не артуги немецкие, не диргемы али корабленики там — вшей бы считал во единой срачице своей ныне!..