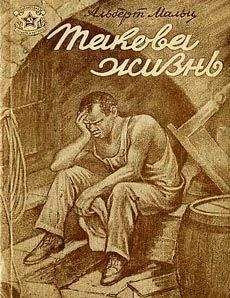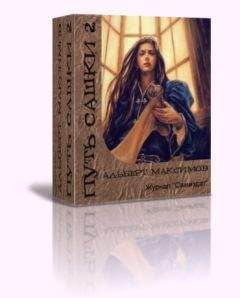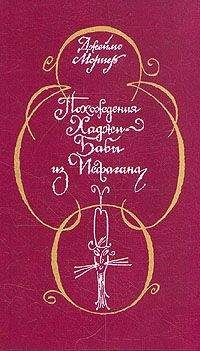Росстань - Гурулев Альберт Семенович
Ольга Евсеевна к Стрельниковым пошла сама, такое дело работнице не доверила.
— Я к тебе, Анна Федоровна. Дело у меня.
Федоровна уже знает, зачем пришла гостья.
— Проходи, Евсеевна. Как здоровье?
Каверзина садится к столу, на лавку, вытирает рот концом платка.
— Болела, голубушка, думала, помру, да Господь не дал, оклемалась.
Хозяйка ставит на стол тарелку серых шанег.
— Не обессудь. Чайку попьем. А ты, Степанка, — кивнула она младшему сыну, — иди погуляй. К Шурке сходи. Чего тебе со старухами сидеть.
Евсеевна вытягивает губы трубочкой, шумно пьет горячий чай, рассказывает свое:
— Левое ухо болело — мочи нет. Грела и все делала. А потом Марина свечку из церкви зажгла, через огонь в ухо подула. Сняло.
Федоровна согласно кивает головой.
— Помогает. Помогает.
— Внука жду. Не откажи, ради Христа — приди, когда настанет время.
Федоровна для приличия отказываться стала.
— Помочь людям — Бог велит. Может, Андрюха фельдшера лучше бы позвал? Человек ученый, грамотный. Не нам чета.
Евсеевна замахала руками.
— Что ты! Нельзя. Андрюха не хочет его. Говорит, проси Федоровну. Платой не обидим.
— Мое хоть и вдовье дело, за платой не гонюсь.
Старая Каверзина ушла довольная, унося строгий наказ беречь невестку, особенно от дурного глаза.
У Стрельниковых гость. На короткую побывку приехал старший брат Федьки, Александр, урядник девятого казачьего полка. Саха — казак бравый. Гордо носит залихватский русый чуб, щегольские усы.
Федька проснулся, когда за маленьким окном занимался день. Жадно выпил ковш холодной, со льдом, воды. Потирая голову, силился вспомнить вчерашние разговоры.
Сквозь зыбкую пелену помнилось: гость сидит за столом, вольно расстегнув ворот, весело шутит, много пьет. Степанка с восхищением смотрит на братана, ловит каждое его слово.
Потом между Федькой и Сахой крутой разговор вышел. Но Костишна их утихомирила. О чем ругались — трудно сейчас вспомнить.
Федька оделся, посмотрел на спящего брата, поманил Степанку за дверь.
— Пойдем сена животине дадим. Сахиного коня накормим.
Степанка собрался быстро. Надел стоптанные ичиги, шею замотал материной шалью, нахлобучил до самых глаз шапку.
Кони встретили их радостным ржанием.
Взяв широкие деревянные вилы, Федька пошел в сенник.
— Чего это мы вчера с Сахой шумели, не помнишь?
— Помню, — обрадовался Степанка. — Ты пьяный был да и давай к нему приставать, что он японцам служит. Материл его.
— А он?
— А он тоже матерился. Тебя краснозадым называл. Хотел тебе морду набить.
— За что это?
— А ты велел ему к партизанам убегать… Ниче, помиритесь, — Степанка пнул мерзлый кругляк конского навоза, вытер нос мохнатой рукавицей.
— Не помиримся, братка. Вот жизнь что делает, — Федька стал серьезным. — Этого разговора у нас с тобой не было. Запомни.
Степанке грустно, что такие хорошие братаны, которыми он гордился, не будут мириться.
— Ты, Федя, сегодня на него не налетай, он ведь гость.
— Не буду, — обещал Федька.
Весь день Федька был дома. Просушил седло брата, вытряс потники, попону. Любовно вычистил винтовку и шашку.
Александр воспринял все это как раскаяние за вчерашние необдуманные слова.
— Я бы сам все это сделал, — говорил он брату, — но коли охота, так уважь.
Только за обедом Федька спросил:
— Чего ты взъелся вечером на меня? Я плохо помню, что говорил.
— Под чужую дудку поешь, вот и отругал я тебя.
— Да нет, брат, — примирительно сказал Федька, — я просто думаю, почему, кто победнее живет, в партизанах ходит. Справные — у Семенова. А мы разве справные?!
— Нет, — жестко ответил Александр, — красные — зараза. Заразу надо уничтожать. Я тебе как старший брат говорю.
В самые клящие крещенские морозы, когда замерзали на лету воробьи и даже вороны, заимка обрадованно загудела: на Аргуни пошла рыба. Об этом сообщил дежуривший на реке в прошлую ночь Северька Громов. Рыбу ждали давно, и народ валом двинулся на лед Аргуни.
Еще загодя реку перегородили решетками — бердами, сплетенными из тальника. Рубить лед, вбивать в дно реки колья, устанавливать берды выходили чуть ли не все мужики заимки. Делали громадную круглую прорубь, над прорубью ставили юрту. День и ночь дежурили, следили, не пойдет ли рыба. На берегу всегда горел костер, стояли запряженные лошади. И вот рыба пошла. Руководят работой на реке старый Громов и Илья Каверзин. Первыми к проруби встали Проня Мурашев и Савва Стрельников. Сверху через круглый срез юрты падает свет, хорошо высвечивает дно. А внизу, вдоль берд, косяком идет рыба, тычется в тальниковую перегородку. Проня и Савва без устали колют острогами рыбу, выбрасывают ее на лед. Мороз крепкий, прорубь быстро затягивает туманной корочкой: работы хватает всем.
Так продолжается два-три дня, пока мороз не ослабнет и не прекратится ход рыбы.
Улов делили на паи здесь же у реки.
Федоровна слышала, как у ее зимовья замер лошадиный топот и морозный скрип полозьев. Как угорелая, в дверь ворвалась Финка, молодая работница Каверзиных.
— Бабушка Анна, скорей! — с порога закричала она.
— Я сейчас, — заспешила Федоровна. — Дверь закрой, выстудишь все тепло, шалая. Сейчас вот, соберусь.
Финка на месте не стоит, приплясывает от возбуждения. Хлопает кнутовищем по валенку.
— Как она? — спросила Федоровна, уже усаживаясь в кошеву.
— Н-но! — тронула вожжи Финка. — Кричит. Страшно так!
В зимовье Каверзиных вся власть перешла к Федоровне.
— Дверь на заложку. Лампаду надобно зажечь перед образами. Все хорошо будет, Христос с нами.
Федоровна заправила волосы под косынку, вымыла руки горячей водой, неустанно повторяет божественно:
— Господи, помилуй, спаси рабу Твою Марину, помоги ей счастливо разрешиться от бремени.
Время шло. Федоровна все там, за ситцевой занавеской, у Марины. Евсеевна стоит на коленях, молится. Молится устало, давно. Детский крик, как кнутом, подстегнул, Евсеевна гулко об пол лбом.
Слава Те, господи. Услышал наши молитвы.
На Аргуни продолжали колоть рыбу. Уже и Федька и Северька успели отстоять свою очередь с острогами не по одному разу, а рыба все шла. На торосистый лед острогами выбрасывали сытых тайменей, крупночешуйчатых, широких, как лопаты, сазанов. Уже выросла немалая гора мороженой рыбы.
Вторые сутки Илья Каверзин не уходил от реки. Думал: «Как там Марина?» А сходить домой — времени не было. Еще издали увидел, что кто-то скачет сюда, к реке, на его Рыжке.
Финка круто осадила коня.
— С внуком тебя, дядя Илья.
Илья победно оглянулся вокруг. Потом словно спохватился, повернулся лицом к желтому пятну солнца, проступившему сквозь туман, снял шапку, трижды перекрестился.
— Слава богу. Продолжен род Каверзиных, — и крикнул: — Сергей Георгиевич, дома мне надо быть. Смотри тут один!
— Что у тебя случилось? — подошел в обледенелом полушубке Проня Мурашев.
— Счастье у меня, Проня. Внук родился. Я поеду, а ты мой пай привезешь.
Илья бросил солидного таймешка в кошевку и упал рядом с Финкой.
Назавтра у Каверзиных гуляли. Гости пришли солидные: Проня с женой, Сила Данилыч. Из Караульного прискакал Андрей, привез есаула Букина, обрадовав отца. Ко времени подоспел и поп, сиречь отец Михаил, завернувший на Шанежную крестить ребятишек, народившихся за осень и зиму.
Илья вина не пожалел. С рождением внука отмякло сердце старика. Гости тоже — не заставляли себя принуждать. Пили за здоровье внука, пили за деда, за отца, за Марину. Через час говорить уже хотелось всем.
— Жизнь идет, — философствовал Проня. — Одних убивают, другие умирают, третьи нарождаются.
— Так Господу угодно, — вторил ему отец Михаил.
Сила Данилыч гнул свое:
— Вот ты, господин есаул, и ты, Андрюха, стоите у власти, так растолкуйте мне, когда эта проклятущая война кончится. А то живи и бойся. Неужто партизаны так сильны?