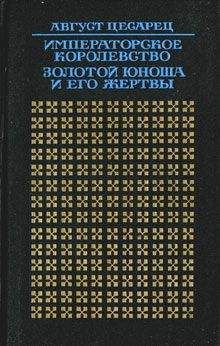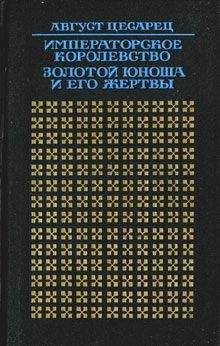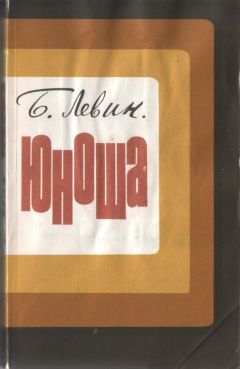Алексей Румянцев - Я видел Сусанина
Поймет ли его брат, родная кровь? Сказать ли брату про все, не таясь, что уготовано Василию Шуйскому? Расправами тешась, вперед не зрит царь, вот как и брат Иван: в том и беда, и недуг Москвы боярской. Через жадность безмерную вконец истощили черных людишек: корень питающий топчут и роют, аки свиньи, в дуровстве непомерном. А на корню — стеблю расти, цветам расцветать. Не в подлой ли черни, не в мужиках ли остервелых, коим Шуйский головы рубит, надо ныне разгадку искать? Боярство — не та опора: боярин и сам не прочь приладить свой зад к царскому трону. Труха это, не сила. Гнилой мох. Силу же настоящую, силу внутреннюю, неодолимую, ты проворонил, царь Василий, шубы свои считая[9]. И вот сидишь ты, неудалый «шубник», в Кремле, что в берлоге медведь, и мужики с вилами тебя обложили — подпекают со всех сторон… Так не с тобою ли, толстая борода, ладить мне путь укажешь?! Аль, может, как и допрежь было, стать еще раз дудою во стане шептунов-заговорщиков? Чтобы в мыльную петлю голову сунуть для чьих-то барышей-выгод? «Нет, иную стезю указал мне ныне всевышний: путь верный, хоть и извилист вельми, вижу отсюда, из Ростова. Не с боярским стадом. И не с тобою, царь-недоумок».
Филарет отхлебнул сладкого соку из чаши.
— Раба из Домнина пошто не привез? — спросил брата.
— Здесь он, Акишка мой, на подворье. Причуден токмо языком: с перепугу, должно… Позвать?
— Сиди. Любо с тобой.
Что частицу отчего дома, его дыхание, запахи привез из Москвы Иван — сие любо. Отрадно, что живы-здоровы милые чада Мишенька и Татьяница-дочь, что поклоны шлет свет-супруга Ксения Ивановна, белая лапушка, что други ближние и дальние не забыли. Но чего-то недосказывает гостек дорогой: ишь, мнется, вертун. Только ли для вотчинных дел он, недужный, с порчеными ногами, покинул столицу в недоброе время? Кто поверит?
— Страх смертный на дорогах, все пути держит Лжедимитрий Второй. Где тропками вез меня дворянинишка Леонтий Полозов, где межником-обходом — растрясло-о… — Боярин беспокойно ерзнул по ковровой скамье, метнулось желтым язычком пламя свечи. — Гуляет слух, Федя, что новый-де самозванец — поп-расстрига безвестный? Как сие?.. Неужь Москву подомнет, сатана?
Священнейший молча водил перстами по сафьяновой, с бирюзой по углам, задвижке ларца. Раздвинул машинально: клетчатое поле внутри, по клеткам — затейные фигуры воинов из точеной кости. Строй белого шаха, строй черного. Две рати сигнала ждут. Равные.
— Кабы в Москве тако, — кивнул Иван на игру и скрестил пальцы на круглом животе. — У нас в Москве, Федя, белый-то шах без рати кукует. Куда хошь гляди — добра не жди… Не уносить ли ноги от шаха-маха?
— Не уносить ли?..
Шевельнулись густые, вразлет брови, дрогнули складки шелковой рясы. Будто очнулся владыка. Будто его царапнуло.
— С тем и приехал? — глянул на Ивана в упор, настороженно. Подавшись вперед, он теперь напоминал чем-то крупного ястреба, стряхнувшего дремь. — Москва подослала прощупывать меня, говори правду? Мишка Салтыков? Бояре Сицкие с Троекуровым?
— Ххе-хе, свет-братец… Провидец ты, хе-хе, — завихлял боярин игривым смешком. Затем посерьезнел: — А ты обнадежь, молитвенник мудрый, обнадежь, как дальше-то жить? Одиннадцать братьев-сестер было у нас — где братовья-сестры? Сколько нас, Никитичей, вживе осталось? Тут и правдишка вся, родной мой. Тут она, Федор-братуня.
Ни тени на бесстрастном лице владыки. Смолчал. Приподнялся лишь, туфлею шаркнув, захлопнул сквозившее стрельчатое оконце в сад. Медлительно-величавый, с каштаново-светлой волной гривы на тучнеющих плечах, стал он перед Иваном. Похожий и непохожий на него, рыжего.
— Не боярам — тебе, брате любый, хочу открыть вещий сон. Внемли: с тобою нам настежь надо. Не спал единожды, богу молясь, — бессонье-то знаешь мое. А над утром, к заре светлой, тако попритчилось… — Он приглушил сипловатый голос, и тихие словеса его, шелестя подобно листве, были так под стать полумраку и лампадному благолепию покоев. Превеликий пожар снился недавно митрополиту. Метались в страхе люди и гибли во пламени, трещало вокруг, и набаты гудели. А он, Филарет, усаженный в боярский возок, летел сквозь огнь и чад на коне матером. И больше всего томило его — уцелел бы золоченый возок, не порушился бы. Тут матерый конь рухнул замертво, на место его стал иной, младой и вертлявый. Но и этот конек шею сломил вскоре, и уже третий скакун, черный, дерзновенный зело, мчит возок сквозь жаркие вихри. Тяжко сидеть в возке, трещит он и шаток стал. А вылазу нет: заслонил весь передок мужичище-верзила в лаптях драных, вонью напитанных… Како решати? Уже пропасть смрадна видится сквозь пламень и гарь, а конь скачет-летит к пропасти, в огнь всепожирающий, и мужичина — зверь яростный — свистит-регочет, вожжами крутя…
Филарет оседлал бархатный круглый стулец, откинув рясу, жадно глотнул питья из голубой скляницы. Нервно дрожали его волосатые ноздри.
— И тут голос мне слышен, еже сверху, с небес внушающе, — продолжал он шелестеть: — «Не верь бо коню, аще безумен есьм. И золотой возок — не остров спасения. Зришь лапоть перед очами? В нем же и мудрость вся: где мужик — тамо и сила, и жизни сок…»
Гость усердно моргал, силясь понять. Одолел-таки.
— Це-це, — защелкал он языком. — Конь матерый — Борька Годунов. Так?.. И младого, что шею скоро сломил, — разумею. А с третьим как, с черным-та?.. — Боярин поскреб ногтем рыжую шерсть подбородка. — Царь Василий тянет московский возок ныне — то ясно. А сбоку-припеку? Ить — с Тушина-села самозванец Москве грозит!.. Двое, выходит, — а?
— Не понял, господь с тобой, — кротко вздохнул Филарет. — Давай, коли тако мы… Зри сюда.
Придвинув «шахи» к кромке стола, он щепотью поднял фигуру коня с клетчатого поля.
— Боковые лошадки сии лягают шаха сбоку, — сказал загадочно. Двинув точеного конька изгибом, буквицей «глаголь», он ловко спихнул с центральной клетки царственного вида фигуру. Пояснил: — Тако сгубила Бориса белая лошадь: кривопутьем шла. Зришь?.. А эта, черненькая, лягнет сюда с божьей помощью тако…
— Его?! — задрожал боярин, привстав. Он понял все. — Царя… Василия?!
— Без воли всевышнего ни един волос не падет с главы человеческой, — строго изрек владыка, возведя очи к лампадам в углу. И — шепотом: — Тут узелок делу, брате-свет. Наша тут горка.
— И… скоро это? — спросил Иван с острым, тревожным интересом. — Ужель нам с тобою… на той лошадице черной? На мужике, нами взнузданном…
Филарет оборвал:
— Мирские дела мне саном возбраняемы, тс-ссс. — Он прислушался к тишине покоев, глянул хищно и зорко в темень заоконную. — Не по мосточку — по же-ердочке зыбкой над пропастью надо идти, Иванушка! Надысь видел я пестрого зайца: на серой шерсти — издали видно — белеет клок… А? Не хошь ли оказаться ныне с белым клоком-приметой?
Поднялся, смешал рукою костяные фигурки:
— А в Кострому, к сроднику Мосальскому… завтра едем. Да буди, господи, милость твоя на ны…
И широко, истово перекрестился на лампады.
ПЕРЕД ГРОЗОЙ
В тех же числах Иван Сусанин, раскованный и выпущенный из амбара, затребован был в Кострому, к пожаловавшему туда великому владыке. И что-то быстрехонько обернул дед в Домнино. Приехал от могущественного митрополита на третьи сутки в полном смятении, будто ошарашенный, от расспросов отмахивался, к избенке своей шел молчун-молчуном.
Да укроешь ли что от любопытных ушей в небольшой деревеньке? В ночь на Ивана Постного староста заявился, а наутро его дочь Антонидка перешепнулась у двора с Дуняткой-Огоньком, подругой сердечной; Дунятка тотчас порхнула к бабке Секлетее в Нестерово, бабуля, вестимо, к ближней куме Лукерье-Задворенке, а уж Задворенка, разумеется, к своим ближним и не так чтобы ближним… Словом, к полудню все Поречье, все романовские деревеньки по Шаче бурлили новостью:
— Акинф-приказчик ссажен владыкой!
— Карать-пытать за лесных беглых больше не будут. А нашего старосту Ивана поставили ныне…
Да такое высказывали тут шепотком, что ахи-охи не затихали окрест:
— Ой, верно ли, паря?
— Правда, слышь. Дело не шутейное!
— Лиходеев от нас отставить хотят. Староста Иван будет-ча порядок блюсти.
И хотя Сусанин, все же находясь в столбняке, ни с кем, кроме как с хворой женой, не перемолвился о встрече в Костроме, бабули-кумушки уже заплетали трогательные истории про ангельскую кротость смиренного Филарета, про милосердие Ростовского отца-владыки к люду бедному, подневольному:
— Господь указал ему путь благочестия.
…А дело объяснялось довольно просто. Как перед ураганом неизбежны какие-то минуты зловещей тишины, так и в те сентябрьские дни 1608 года стояло в нашем Поволжье нечто вроде предгрозья. Филарету Романову надо было решить непростую задачку. Василия Шуйского, соперника своего, он презрительно вычеркивал из игры: скуден умишком, недалек царь. В силы бояр-спесивцев не верил — давно знал им цену. Лжедимитрий Второй, укрепившийся лагерем в Тушине, в семнадцати верстах от столицы, — вот кто был новой лошадкой в новой игре Филарета. Вот кто отныне занимал его ум! Конечно же, второй самозванец лопнет, како и первый, конечно же, судьба обоих царьков-оборотней одинакова. Но и не считаться с «черной лошадицей» теперь, в сию тревожную пору, было бы явным просчетом. Ведь за подставным «царьком» стоят все те же паны-иноземцы, кои вознесли Романовых, кои освободили их, избавили от кар Годунова.