Роман Шмараков - Книга скворцов
XIX
– Когда же они умирают и делаются богами по решению сената, то их чествуют таким образом. Покойника хоронят, а потом отливают из воска его изображение и кладут на кровать слоновой кости, украшенную звериными головами, что стоит в дверях дворца. Слева сидит сенат, весь в черном, а справа почтенные дамы, прославленные делами их мужей и отцов. Приходят врачи, осматривают восковую плоть, словно живого, качают головой и объявляют, что ему все хуже, и так продолжается семь дней, а когда тот умирает, лучшие из рыцарей и юноши сенатских семей берут его одр на плечи и несут на форум, где два хора, один из отроков, другой из благородных дам, поют гимны на почесть умершему. Проносят бронзовые статуи, изображающие все подвластные народы, в одеждах, свойственных каждому, и проходят все городские цехи, плача и сетуя о покойном. Оттуда одр несут за пределы города, на Марсово поле, где стоит большой сруб, набитый хворостом и украшенный коврами, картинами и статуями. Покойника водружают на этот сруб и наваливают, неся отовсюду, целую копну благовоний и пахучих трав, сколько их ни производит земля; все провинции соревнуются в их присылке. Потом конники пускаются на рысях и «обходят, как должно, налево взявши, костер», а за ними колесницы с возничими в личинах, изображающих славных вождей и государей былого времени. Когда и это завершится, преемник императора берет факел и подносит его к срубу; он занимается с великим шумом, и далеко «слышится там киннамон пепелищ благовонных», а сверху вылетает орел, уносящий на небо душу императора. С этого времени он почитается наравне с другими богами.
XX
– А ты, брат Гвидо, показал, что споришь со мной не ради истины, но из удовольствия, ибо историю о Циклопе ты по доброй воле истолковал как притчу: сделай это я, ты рассыпался бы в колкостях, понавез коней из Греции и не дал мне слюну сглотнуть.
– Я сказал так из снисхождения к древним, – заявил госпиталий, – зная, что они питали пристрастие к таким потехам, из которых выпархивает иносказание, как жаворонок из пирога, и готовы были простить Тарквинию жестокость его советов, восхищаясь тем, как он молчит, покамест его жезл сшибает лилии. Когда римляне пошли на тарентинцев, те, видя, что одной дерзостью можно вызвать войну, но не выиграть, решили призвать царя Пирра, который в ту пору много терпел от своего главного врага – праздности. Тут можно было бы напустить на него Сенеку, проклинающего тех, кто умирает за исполнением должности, и смеющегося над Тураннием, который, девяноста лет от роду будучи отставлен от службы, улегся на кровати и велел всем родным и слугам вопить по нем, как по покойнике, пока император не вернул его к трудам, из любви к тишине предпочтя Туранния занятого Тураннию мертвому, – можно было бы, говорю я, но мы это отложим до лучшего времени, а пока скажем только, что царь изнывал от безделья и рад был убить свой досуг по первому зову, откуда бы он ни раздался. И вот один человек, по имени Метон, видя, что тарентинцы, невзирая на мнение людей благоразумных, готовы одобрить этот замысел, украсил себя венком, взял в руку факел и в обнимку с флейтисткой, наигрывавшей застольные песни, явился на площадь, где горожане судили о выгодах царской помощи. Увидев Метона, они захлопали и принялись уговаривать его, чтобы он спел для них или сплясал, он же, сделав вид, что охотно это исполнит, дождался, что все утихли, и сказал: «Как хорошо, сограждане, что вы позволяете каждому пиры и веселье по его мере; поторопитесь же насытиться этим впрок, ибо у вас не будет такого случая, когда царь войдет в город». Слыша такие речи, они смутились; это было хорошо сказано, хотя кто-то, пожалуй, сочтет нужным прибавить, что когда разум займет в человеке свою высокую цитадель, то вожделения, сущие в его городе, сникнут и присмиреют, лишенные возможности буйствовать по своему обычаю; да, это тоже мудро и прекрасно, мне кажется.
– Похоже, ты опять потешаешься надо мной, – заметил келарь.
– Упаси Бог, – ответил госпиталий, – чтобы я дерзнул на это; даже во сне я не сделал бы ничего такого, хотя там-то люди всегда ведут себя хуже обычного.
XXI
– Хорошо, что речь зашла о снах, – сказал Фортунат: – они ведь тоже дают знаменья, или по крайней мере так считается; не расскажет ли кто-нибудь из вас об этом?
– Любезный Фортунат, – ответил ему госпиталий, – ты словно божество памяти, поставленное при начале нашей беседы: без тебя она крутилась бы, ловя свой хвост, или тешилась еще чем-то, за что людям бывает стыдно; до того-то доводит забвение самого себя. Один человек, вернувшись из долгого странствия, приступился к другому, требуя вернуть деньги, оставленные на хранение пять лет назад, тот же отвечал, что, по учению философов, мы состоим из мельчайших частиц, которые ежедневно отделяются от нашего тела, заменяясь другими, и за пять лет меняются все полностью, так что он оставлял деньги совсем другому человеку, а с этого, нынешнего, нечего и спрашивать. Тот, слыша такие речи, повернулся и пошел прочь; на дворе же стояла лошадь того человека, что обменивал свои частицы с такой выгодой, запряженная в телегу. Странник, нагнувшись, набрал полные пясти грязи и заляпал лошади оба бока, а потом взял ее под уздцы и тронулся со двора. Хозяин выскочил за ним и замахал руками; тогда странник сказал ему, что его лошадь была чистой, а эта грязней некуда, так что это совсем другая лошадь и по совести принадлежит тому, кто первый ее нашел; что до телеги, то сейчас, правда, она еще прежняя, но пока доберется до его дому, так нахватается, что ее мать родная не узнает. А поскольку свои дискуссионные положения он был готов обосновать обоими кулаками, то пришлось хозяину вспомнить, кто он таков и где держит взятые деньги. Потому у правоведов и принято считать вещь прежней, пока она сохраняет свой вид, так что и корабль, и войско, и народ остаются теми же, хотя в них постоянно меняются доски и люди. Впрочем, коль скоро он понимал, о каких деньгах его спрашивают, то, значит, оставался собою: ведь что такое человек, как не его память.
– Иной раз для этого и пяти лет не надо, – заметил келарь: – посмотри только на того, кто, не умея обуздать свое воображение, забывает, где он и что с ним делается.
– Когда покойный император, – сказал госпиталий, – держал в осаде Фаэнцу и был озабочен тем, что не видел способов взять город скорее, его брил один цирюльник, который, думая разогнать печаль императора, сказал: «Мне кажется, это дело такого рода, что о нем не стоит много думать, ибо сегодня Бог вам не дает этого, а завтра даст, надобно лишь терпение и отвага: смотрите, вот так мы с нашими людьми разоряем окрестности (тут он прошелся бритвой по подбородку), так переходим Ламоне (и он перебрался через рот, который император благоразумно держал закрытым, чтоб ни одна лошадь не потонула), так загоняем фаэнтинцев в их стены, запираем им выходы, и тут уж ни Варфоломей, ни Бернардин, никто им не поможет»; с этими словами он истребил всех фаэнтинцев на левой щеке, а потом и на правой, не оставив никого, чтобы возвестить об этом. Когда же он кончил свое дело и вытер развалины полотенцем, император встал и велел своим слугам, чтобы приискали ему другого цирюльника; тот, озадаченный, спросил, чем он провинился, а император отвечал ему: «Это не потому, что ты взял Фаэнцу раньше меня, – я ведь понимаю, что Фортуны у всех разные, и завидовать чужой глупо; но завтра ты, чего доброго, двинешься через Альпы, и тебе захочется пробить дорогу пошире, чтобы твоим слонам было где пройти, а Бог не даст мне другого носа, так что мне приходится беречь этот».
– Нечто подобное рассказывают о Сципионе, – заметил келарь, – когда он, став цензором, разжаловал из всадников юношу, который во время войны, устроив большой пир, подал медовый пирог с башнями, назвал его Карфагеном и предложил сотрапезникам наброситься на него и разорить, так чтоб никто не спасся; а когда юноша спросил, за что ему такое наказание, Сципион ответил: «За то, что ты взял Карфаген раньше меня».
– Это оттого, – сказал госпиталий, – что времени у истории много, а матерьяла недостает, так что ей приходится перелицовывать старый: потому и оказывается, что Троя трижды взята врагами по вине коня, и случаются другие вещи того же разбора, которые люди запоминают охотней всего, вместо того чтобы выучить что-то достойное.
– Так и сны, – подхватил Фортунат, – у одного человека часто повторяются, да и многим людям снятся похожие.
– В самом деле, брат Петр, – сказал госпиталий, – оставим-ка эти дурачества; расскажи нам, что ты помнишь о снах, кто их видел и что из этого выходило.
– Цари часто слушались своих снов в важных делах, – сказал келарь. – Когда Эней и Латин стояли ночью друг против друга, дожидаясь зари, чтобы начать бой, явившееся Латину местное божество убедило его принять троянцев как соседей и будущих помощников, Энею же отечественные боги внушили просить Латина дать троянцам поселиться, где они пожелают, и поутру, когда с обеих сторон начали строиться для битвы, пронеслась весть, что вожди принимаются за переговоры. А царь Тарквиний суровую кару для весталок, потерявших девство, придумал, говорят, не сам, но поверив некоему сновидению.

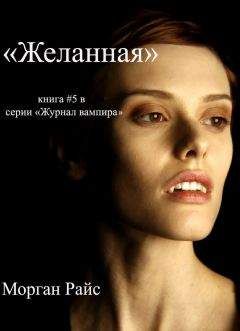

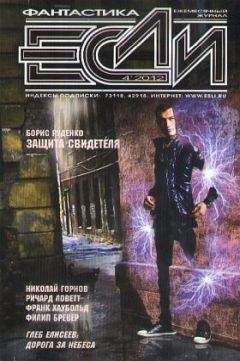
![Ольга Азарова - Неудавшаяся месть[СИ]](/uploads/posts/books/5230/5230.jpg)