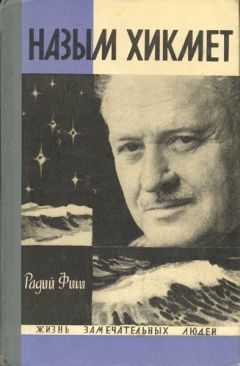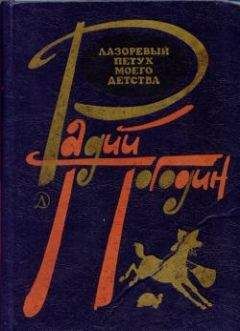Радий Фиш - Спящие пробудитесь
Все знали, как безудержна и безрассудна может быть ярость Баязида. Знал сие за собой и сам он и почитал за слабость. Пытаясь унять гнев сердца, подчинить его разуму, прикрыл рукой дергавшиеся губы, словно оправлял усы. Долго оглаживал бороду, как бы предаваясь раздумью. И не трогался с места. Памятуя о крутом нраве повелителя, не смели нарушить молчание стоявшие рядом вельможи. Недвижно глядело на Баязида его победоносное воинство.
Мустафа давно убедился в справедливости древнего, как мир, воинского правила: не спеши исполнять первое приказание начальства, ибо за ним последует другое, противоположное. И все же последовавшее потрясло его до глубины души.
Когда тысяцкий вернулся на свое место, султан спросил:
— Что ты сделал с беем Карамана?
— Снял голову с плеч, мой государь! — ответил тот с поклоном.
— Отчего не подождал, покуда уляжется гнев твоего государя? Куда торопился? — хрипло проговорил Баязид. И сорвался на крик: — Как смел ты, ничтожный, поднять руку на великого бея?!
— Но ведь, государь мой…
— Молчать! — Слезы показались на глазах у султана. Повернувшись к янычарскому начальнику, он приказал: — Взять и прикончить на том же месте, где погубил сей несчастный бея Карамана!
Тысяцкий был верным служакой: как только понял волю государя, тут же привел ее в исполнение. Что он не ошибся, стало ясно немедленно.
— А ты, Али-паша, — повелел султан великому визирю, — прикажи своим людям насадить голову караманского бея на пику и возить ее по всем землям, дабы впредь не повадно было никому противиться воле Османов.
Тысяцкий, может быть, и поторопился, но разве сей доблестный воин, не раз отличенный за храбрость еще отцом нынешнего султана, заслужил столь бесславную смерть?!
Впервые возмущенье несправедливостью облеклось для Мустафы плотью слов.
Враги или друзья, правоверные или гявуры, беи оставались беями. Жизнь самого верного государева слуги, жизнь тысяч воинов ислама не стоила жизни одного из них. Ни родина, ни вера, ни законы божеские и человеческие ничего не значили, коль речь шла о власти.
Но чтобы осознать это до конца, десятнику азапов Мустафе Бёрклюдже понадобилось еще шесть лет службы, потребовалось увидеть своими глазами, как в разгар Анкарской битвы беи один за другим предавали своего государя и перебегали на сторону смертельного врага турецкой земли Тимура: ведь тот обещал вернуть их вотчины. Да что беи! Родные сыновья султана Баязида, почуяв в воздухе запах разгрома, кинулись наутек, бросая своих воинов, чтоб спасти шкуру и назначенные отцом уделы.
VПосле разгрома при Анкаре, страшась плена, Мустафа с Гюндюзом целую неделю скрывались в лесистых холмах от рыскавших по округе тимуровских отрядов. Бёрклюдже проклинал день, когда по собственной дурости вызвался махать саблей, чтобы отстаивать веру, честь и справедливость, а на деле проливать свою и чужую кровь ради бейской, ради государевой выгоды.
Как-то под вечер набрели они, оборванные, грязные, на дервишеский скит. В пещере, озаряемой потрескивавшим пламенем светильника, молились трое старцев. Простирались ниц, присаживались на колени, воздевали руки и снова простирались. Их тени метались по закопченным стенам огромными нетопырями. Вошедших словно и не заметили.
Гюндюз очистил в сторонке пространство и вместе с Мустафой тоже встал на вечернюю молитву. Но молитва иссушенных подвижничеством дервишей затянулась так, что молодым обессилевшим от голода воинам оказалась не под силу. Они задремали.
Мустафа открыл глаза оттого, что почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Над ними стоял старый дервиш, может, сам шейх. Не говоря ни слова, жестом пригласил их к трапезе. Посередине пещеры на широких листах лопуха лежали сухие лепешки, полкруга овечьего сыра, стояли кувшины с водой. Отшельники наверняка знали об исходе Анкарской битвы и понимали, кто были пришельцы.
Мустафа с товарищем жадно принялись поглощать еду. Насытившись, поклонились каждому из трех:
— Спасибо вам, божьи люди!
— Коран гласит: «Скажите: сами вы опустили наземь воду из туч или я опустил?» Не нас надо благодарить, а подателя всех благ. Мы — лишь орудие его.
Слова эти, обычные в устах суфийских шейхов, нежданным проблеском мелькнули десятнику азапов, словно оправдывали его собственную незадачливость: может, и воины никого не убивали, поскольку были только орудием в руках всемогущего? Шейх, будто угадав его мысль, откликнулся:
— Не винись, не кайся, воин! Ибо сказано: «Не вы убили, Аллах их убил. И когда ты их бросил, их бросил не ты — Аллах».
Потрясенный чудом ясновидения, Мустафа пал перед шейхом на колени:
— Рабом твоим буду, окажи благодеяние, разреши от сомнений!
Старец положил ему руку на голову:
— Встань и говори!
И Мустафа рассказал о казни пленных крестоносцев и о султанской охоте, о чувстве оскорбленной справедливости, о своей беседе с хатибом и об искушениях в вере.
— Лекарство твое — в тебе. Но ты сего не ведаешь, — выслушав его, молвил шейх. — И болезнь твоя — в тебе. Но ты ее не видишь. Ты сам — великая книга, чьи буквы открывают сокрытое. Ни в чем извне ты не нуждаешься. В твоем сердце — вселенная. Но ты полагаешь себя песчинкой.
Старец погрузился в океан размышлений и забыл о существовании Мустафы. Тот решил было, что беседа окончена, как шейх снова увидел стоявшего перед ним воина и продолжал:
— Верно сказал тебе хатиб: надобно слушать сердце свое. Только сие есть труднейшая из наук. И владеют ею не улемы, а те, кто ведет ухватившихся за их полу обеими руками к сокровенному знанию. Ежели готов отправиться в путь, не зная, что обретешь и обретешь ли вообще, — ступай!
— Готов, мой шейх!
— Не торопись, подумай: для этого надлежит отказаться от себя. И помнить: возврата не будет. Не может снова стать неграмотным тот, кто однажды научился читать!
— Я готов, мой шейх!
— Сразу решил, что готов?
— Нет, не сразу, мой шейх. Сперва подумал, что не готов. А потом понял, что готов. Лишь бы не утратить веры…
— Значит, быть тебе мюридом, — вынес приговор старец.
Мюрид означает «вручивший волю». Так называли приверженцев того или иного шейха, коему обязывались подчиняться беспрекословно, не справляясь о целях и причинах. Отказ от собственной воли был исходной точкой, откуда суфийские шейхи вели мюрида по пути самопознания и самосовершенствования, называвшемуся «тарикат», что по-арабски, собственно, и означает «путь».
Гюндюз изумленно слушал беседу своего десятника со старым отшельником. Мнилось ему, что, пройдя вместе с Мустафой через столько смертей, знает он его лучше, чем кто-либо, и готов разделить с ним любую участь. Выходило, не знал, не готов.
Мустафа достал из-за пазухи кису с деньгами и каменьями. Разделил их поровну. Половину отдал шейху, половину — Гюндюзу.
— Ступай в Айдын. Если жива еще моя родня — поможет. А нет, сам устраивайся. Ты ведь шорничать любишь? Вот и заведи себе мастерскую… Не перечь, так надо. Даст бог, еще встретимся!..
Расставшись с Гюндюзом, Мустафа совершил первый шаг по новому пути. Он дался ему без всяких усилий. Напротив, избавиться от самого себя в тогдашнем его состоянии было облегчением. А это, в свою очередь, упрощало задачу шейха.
Абу Али Экрем, как звали старца, был одним из тысяч безвестных суфийских наставников. Не десятки, не сотни мюридов, как у знаменитых шейхов, а всего несколько человек следовало за ним. Но он обладал методом, разработанным поколениями суфиев и доставшимся ему по длинной многовековой цепочке учителей, что восходила к достославному аскету и философу Джунайду из Багдада по прозванию «Павлин нищих».
Шейхи и их ученики полагали, что на пути самосовершенствования постигают нечто надсознательное, то есть Истину, или, что для них было равнозначным, Бога. Между тем они учились управлять подсознательным в себе и в других.
Согласно многовековой традиции, шейху прежде всего надлежало превратить душу мюрида в чистый лист бумаги, смыть все, что было начертано прежней жизнью. Абу Али Экрем сразу увидел: его новый мюрид не корыстолюбив. Но гордыня воина, хоть и была надломлена, все еще сидела в нем. И потому он задал ему первым уроком нищенство. Мустафа должен был побираться по окрестным деревням, добывая пропитание шейху, себе и двум другим подвижникам. Унижение должно было расправиться с остатками его гордыни. Но после всего, что Мустафа испытал во время Анкарской битвы и вслед за ней, скитаясь, точно обложенный волк, по чащобам, могло ли нищенство стать для него большим унижением?
Вскоре шейх почувствовал: новый мюрид подобен трупу в руках обмывателя. И тогда он принялся воскрешать в нем волю, но совсем иную, чем прежде.
Если познание приравнять к восхождению или к пути, как это делали суфийские шейхи, то тело человека можно уподобить коню, а душу — всаднику. Чтобы подчинить коня повелениям всадника, шейх начал с утеснения плоти. Голодом, ночным бдением. Заставлял Мустафу множество раз подряд повторять одну и ту же молитву, по сорок раз подниматься к вершине холма и снова спускаться к пещере, не переставая твердить имя божье.