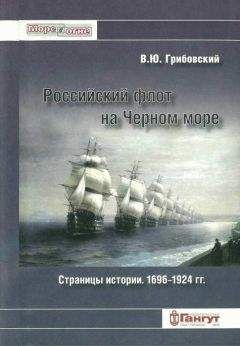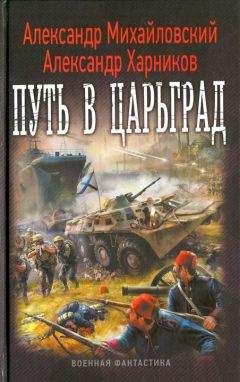Виталий Шенталинский - Статиръ
В те же годы, когда был репрессирован Алексеев, случилось, что через Орел на Каме–реке гнали политический этап, куда–то на север. Стояла лютая зима, зеки были без валенок, легко одеты. Где разместить? В церкви Похвалы Богородицы. Отгородили алтарь дощатой стенкой и устроились. Держали здесь полгода, и старожилы рассказывают, что гремели выстрелы возле церкви, расстреливали, а на колокольне устроили карцер — замораживали людей заживо. Этап ушел, оставив после себя яму, наспех закиданную землей. Жителям же наказали помалкивать: ничего, мол, не видели и не слышали, ясно?2
Мог ли вообразить отец Потап, что будут творить потомки в его церкви через двести пятьдесят лет, когда писал:
«Что видят очи в роде моем? Сокрылся уже ныне свет правды Божьей, потуск светильник премудрости, горящий в дому Божьем, и слава его в дым превратилась… Ох, ох, горе!»
А все–таки был в советской империи человек, который осмеливался говорить вслух правду!
Случалось, даже в трамвае этот шустрый старик с профессорской внешностью, колючими глазами, задорно торчащими усами и седой окладистой бородой вел себя отнюдь не по–профессорски: с юношеским пылом на чем свет стоит ругал советскую власть. Попутчики шарахались, ежились, отодвигались подальше, закрывались газетами.
И большевистским вождям он бросал прямо в глаза правду–матку, настаивая на «рефлексе свободы», безусловно присущем человеку. Его громкие, кинжальные афоризмы нельзя было повторять, а лучше было и не слышать.
«Вы прививаете населению условный рефлекс рабской покорности».
«На тот социальный эксперимент, который проводят большевики, я не пожертвовал бы лягушачьей лапки».
«Тяжело, невыносимо тяжело сейчас на моей родине жить, особенно русскому по национальности».
21 декабря 1934 года — три недели назад убит Киров, страна на пороге новой волны массового террора — этот седобородый колючий старик шлет письмо в Совнарком: «Вы сеете по культурному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До вашей революции фашизма не было. Под вашим косвенным влиянием фашизм постепенно охватит весь культурный мир, исключая могучий англо–саксонский отдел, который воплотит–таки в жизнь ядро социализма и достигнет этого с сохранением всех приобретений культурного человечества… Пощадите же родину и нас».
И что же власть? Отмахивалась, увещевала, убеждала, успокаивала. Так она возилась только с одним человеком во всей стране.
Кто же был этот безумец, этот неприкасаемый, этот несусветный, неуемный старик?
Первый русский нобелевский лауреат, ведущий физиолог мира, академик Иван Петрович Павлов. Другие почетные академики без колебаний отдавали ему пальму первенства и ставили наравне с Аристотелем и Галилеем.
Преуспевающий диссидент, он один в Советском Союзе говорил во весь голос! И прекрасно понимал свое уникальное положение и роль. В 1935‑м, за год до смерти, писал выдающемуся физику Капице: «Знаете, Петр Леонидович, ведь я только один здесь говорю, что думаю, а вот я умру, вы должны это делать, ведь это так нужно для нашей родины, а теперь эту родину я как–то особенно полюбил, когда она в этом тяжелом положении».
И неужели все запросто сходило ему с рук? Да нет, не все, конечно, всякое случалось. И агентурные справки ГПУ на него составляло — еженедельно, и обыскивали — три раза, даже нобелевскую медаль, и ту отобрали и не сразу вернули, и на допросы таскали, особенно после поездок за границу. Даже посадили однажды для острастки, правда выпустили скоро. А уж аресты сотрудников, близких — это бывало часто, и за каждого он бился до последнего; в конце концов сфабриковали целую антисоветскую группу во главе с его сыном Всеволодом, чтобы хоть так укротить, испугать. Не успели привести в исполнение — сын их опередил, умер от рака.
Что с ним делать? — обсуждали не раз в Кремле. Посадить? Весь мир завопит, опозоримся. Выслать за границу? Тоже позор, да и обругает он нас там. Был и еще один вариант — подкуп! Луначарский предложил Совнаркому план, как поступить с творческими исполинами, как их успокоить: пообещать оплату золотом трем артистам (Давыдову, Ермоловой и Шаляпину), двум композиторам (Глазунову и Метнеру) и, конечно, Горькому. И в науке был найден такой гигант — Павлов.
Но вождь мирового пролетариата знал, что для этого человека есть нечто дороже золота — возможность работать. Оставить! Национальное достояние! Создать условия! Так что теперь всякий раз, когда ученого припирали к стенке, он вытаскивал охранную грамоту — специальное постановление Совнаркома 1921 года «Об условиях, обеспечивающих научную работу академика Ивана Петровича Павлова и его сотрудников» за подписью самого Ленина! — и тряс ею перед чекистами, и поднимал такой шум, что те рано или поздно разбегались, оставляли его в покое. Единственному гражданину на одной шестой части земной суши — все права и возможности! Известный кораблестроитель академик Крылов однажды, встретив его, попросил: «Возьмите меня к себе в собаки».
Кроме охранной грамоты и мировой славы, спасало еще и то, что опыты Павлова над животными могли пригодиться большевикам в их опытах над людьми.
Переделка человека. Эта идея, попытка перемудрить саму природу, социально клонировать человека, — чтоб любил палачей и испытывал счастье в рабстве, — была особенно по сердцу большевикам. Она разом решала все проблемы. «Да, мы будем штамповать интеллигентов, будем вырабатывать их, как на фабрике», — весело разъяснял Бухарин. Недаром он, один из главных энтузиастов этой идеи, и был персонально приставлен к Павлову для воспитания (как к писателю Короленко — нарком Луначарский). Не трогали — зато и опека особая, попытка–пытка приручить великана интеллекта и духа.
В одном следственном досье на Лубянке обнаружилась агентурная записка литератора–стукача по кличке «Саянов», который доносил в НКВД: «Вспоминаю рассказ Бухарина на совещании у Горького о том, как он, Бухарин, обрабатывал академика Павлова. Рассказ был очень образен. Бухарин говорил Павлову: «Нашу беседу, наш разговор на набережной опишет какой–нибудь романист через несколько десятилетий. Беседу коммуниста со старым ученым»”.
Павлов и впрямь смотрится Гулливером среди лилипутов на фоне массовости, коллективизма, нивелировки, маршей в ногу, культа безличности. Любимое его слово — «достоинство». Вот уж кто понял бы отца Потапа Игольнишникова с его «О человек, познай свое достоинство!». В 1920‑м Павлов устраивает очередной переполох — произносит речь по случаю столетия своего учителя, великого физиолога Ивана Михайловича Сеченова: «Мы живем под господством жестокого принципа: государство, власть — все. Личность обывателя — ничто. Естественно, господа, что все обывательство превращается в трепещущую, рабскую массу, из которой — и то нечасто — доносятся вопли: «Я потерял (или потеряла) чувство собственного достоинства!» На таком фундаменте, господа, не только нельзя построить культурное государство, но на нем не могло бы держаться долго и какое бы то ни было государство.
Без Иванов Михайловичей с их чувством собственного достоинства и долга всякое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие Днепрострои и Волховстрои. Потому что государство должно состоять не из машин, не из пчел, а из представителей высшего вида животного царства — homo sapiens…»
Еще весной 1918‑го Павлов прочитал в Петрограде три публичные лекции, которые наделали много шума: «Об уме вообще», «О русском уме» и «Основа культуры животных и человека». Власти расценили их как контрреволюционный выпад, за Павловым прочно закрепилась репутация инакомыслящего. Лекции эти были запрещены к публикации и, пережив советскую власть, напечатаны полностью только в 1999‑м, уже после горбачевской перестройки и ельцинской постперестройки. Что же за крамола таилась в них, если все цензуры не пропускали? Ведь всем известно, что академик проводил сугубо научные опыты, на собаках, при чем здесь человек? А вот при том же, оказывается, что и у Михаила Булгакова в его «Собачьем сердце»!
Великий Павлов сделал безжалостные наблюдения, важные открытия о природе русского ума. Сказал свое слово и об интеллигенции, и о революции. Это был суровый, но правдивый диагноз, поставленный гениальным врачом своей стране еще в самом начале постигшей ее болезни, но утаенный и обнародованный лишь теперь. Ничего нового с тех пор, по существу, не прибавил никто. И наша беда, что голос Павлова не был услышан и мысли его только теперь доходят до людей.
Свою лекцию «О русском уме» он начинает необычно для ученого патетически:
«Наша интеллигенция, то есть мозг родины, в погребальный час великой России не имеет права на радость и веселье. У нас должна быть одна потребность, одна обязанность — охранять единственно нам оставшееся достоинство: смотреть на самих себя и окружающее без самообмана…»