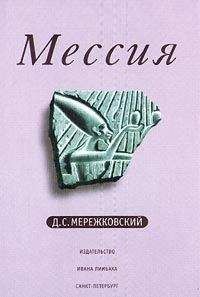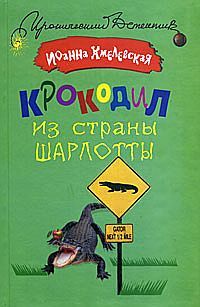Дмитрий Мережковский - Мессия
Вдруг протянул руки и воскликнул громким голосом:
– Было и будет! было и будет! Будет зло бесконечное. Люди богам опротивеют, боги землю покинут, на небо уйдут. Солнце померкнет, земля запустеет. Взвоют стада на полях, сердце скотов заплачет о людях, люди же плакать не будут – будут смеяться от скорби. Скажет старик: «Умереть бы!» и дитя: «Не рождаться бы!» Будет великий мятеж по всей земле. Скажут города: «Изгоним начальников!» Вторгнется чернь в палаты суда; свитки законов будут разорваны, межевые списки расхищены, стерты межи полей, пограничные столбы повалены. Скажут люди: «Нет чужого, все общее; и чужое – мое; что хочу, то возьму!» Скажет бедный богатому: «Вор, отдай, что украл!» Скажет малый великому: «Все равны!» Жить будет в доме дома не строивший; непахавшие наполнять житницы; в ткань облекутся не ткавшие, и смотревшаяся в воду будет смотреться в зеркало. Золото, жемчуг, лапис-лазурь будут на шеях рабынь, а госпожа пойдет в рубище, скажет: «Хлебца бы!» Новыми богами сделаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника!
Вдруг встал, упал на колени и поднял слепые глаза к небу, как будто уже увидел то, о чем говорил:
– Было и будет, – будет новая земля и новое небо. Лев ляжет вместе с ягненком, и младенец взыграет над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Благословен Грядущий во имя Господне! Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса – на землю безводную. Вот Он идет!
Замолчал, и все молчали.
– Все врет! – послышался вдруг в тишине голос Кики Безносого. – И что вы дурака слушаете?
– А ты что на пророка божьего лаешь, пес? – проговорил Хафра, Белый Камень и положил руку на плечо Кики так тяжело, что он пошатнулся. Ловким движеньем выскользнул из-под нее, схватился за висевший у пояса нож; но, взглянув на детское лицо великана, должно быть, раздумал сердиться, усмехнулся одними глазами и проговорил спокойно:
– Ладно, коли он пророк, пусть скажет, когда это будет?
– Для таких, как ты, никогда, а для святых скоро, – ответил Зен.
– Скоро? Ну вот и соврал. Нет, брат, много воды утечет, пока дураки поумнеют.
– Да ты-то сам знаешь, когда? – спросил Хафра.
– Знаю.
– Ну так говори, не мямли!
– А что, пророк, Уны-царя надпись надгробную помнишь? – проговорил Кики, усмехаясь все так же, одними глазами.
Зен молчал, как будто не слышал, но что-то дрожало в лице его, как у маленьких детей, готовых испугаться и забиться в родимчике.
Юбра тоже начал дрожать: понял, что в этом споре между святым и злодеем решаются судьбы земли. А Белый Камень все грознее хмурился.
– Забыл? Ну так я напомню, – продолжал Безносый. – Жил-был Уна-царь в древние дни. Умный был человек, умнее всех людей на земле, а разбойник, вор, сукин сын, не хуже нашего. Помер, похоронили его и сделали над гробом надпись, какую сам он велел: «Кости земли трещат, небо трясется, звезды падают, боги дрожат: Уна-царь, богов пожиратель, выходит из гроба, идет на ловитву, ставит капканы, ловит богов; режет, варит, жарит, ест: большеньких – на завтрак, средненьких – на полдник, меньшеньких – на ужин, а старичков да старушек – на благовонное курево. Всех пожрал и стал богом богов».
– Что ты вздор мелешь, шут? – крикнул Белый Камень, сжимая кулаки в ярости. – Прямо говори, не отвиливай!
– А вот и прямо: скоро – не скоро, а час придет: скажут нищие, скажут убогие: «Чем мы хуже Уны-царя, богов пожирателя?» Скажут сукины дети, воришки, разбойнички, лбы клейменые, спины драные, ноздри рваные, носы резаные, скажут проклятые, скажут Пархатые: «Мы ничто – будем всем!» Тогда и перевернется земля вверх дном; тогда и он придет…
– Кто он? – спросил Хафра.
– Сэт-Озирис, Черненький-Беленький, два братца в одном – бог-смерд!
– Молчи, убью! – закричал кузнец и занес над ним кулак. Кики отскочил и выхватил нож. Началась бы резня, но вдруг с улицы послышались крики:
– Идут! Идут! Идут!
– Бунт! – догадался первый Шпинек и бросился к двери. Все за ним.
Сделалась давка. Блоху притиснули к стенке, чуть не раздавили. Мина повалили на пол. Хафра споткнулся об него и тоже упал. Кики перескочил через обоих и свистнул разбойничьим посвистом, крикнул:
– Есть ножи?
– Есть! – ответил ему кто-то с улицы.
Там все бежали, как на пожар, в одну сторону, от Ризитской пристани к Хеттейской площади.
Было темно, луна еще не всходила, только звезды мерцали на небе и где-то полыхало красное зарево.
VII
Люди толпились на площади. Смутный гул голосов прерывали отдельные возгласы:
– Слава Амону Всевышнему! Слава Хонзу, сыну Амонову!
Вдруг, сначала издали, а потом все ближе и ближе, послышалось стройное пенье. Площадь осветили красные светы факелов, и торжественное шествие вступило на нее.
Впереди – ливийские наемники; за ними – опахалоносцы, кадилоносцы; потом – хоремхэбы – жрецы-заклинатели; и, наконец, двадцать четыре старших жреца-нетератефа, по двенадцати в ряд, с бритыми головами, в леопардовых шкурах через плечо, в белых, широких, туго накрахмаленных, как бы женских, юбках, несли на двух шестах божий ковчег – Узерхет, ладью акацийного дерева, с льняными парусами-завесами, скрывавшими маленькое, в локоть, изваяньице бога Амона. Тень его сквозила сквозь тонкую ткань в трепетном свете факелов; но и на тень бога люди не смели взглянуть: увидеть – умереть.
За ковчегом шла толпа. Пели хором:
Слава Амону Всевышнему,
Слава Хонзу, Сыну Амонову!
Пойте им в высоту небес,
Пойте им в широту земли,
Возвещайте славу их!
Скажите: «Бойтесь Господа!»
Скажите в роды родов,
Великому и малому,
Всей твари дышащей,
Рыбам в воде и птицам в воздухе,
Скажите знающим и незнающим:
«Бойтесь Господа!»
Юбра тоже пел, произнося имя Атона вместо Амона; в хоре это не было слышно. А иногда ошибался, славил бога врагов своих и радовался: знал, что там, куда они идут, уже не будет врагов; лев и агнец будут вместе лежать, и младенец взыграет над норою аспида.
Рядом с Юброю шла нищенка из удела Черной Телицы. Давеча нашел он ее на площади, у горки навозных кирпичиков, полумертвую от голода, привел в чувство и накормил: Небра достал у приятеля-лодочника хлеба для нее и молока для ребеночка. Поев и увидев, что дитя живо, сосет соску, ловко скатанную для него Юброю, она ожила и пошла за ним, как собака идет за накормившим ее человеком. С ним попала и в шествие.
Крепко и ласково держал он ее за руку, как будто вел и эту погибавшую дочь земли в землю новую, и эту скорбную – к Утешителю. Плохо понимала она, что происходит, и, не смея взглянуть на тень бога за тканью завес, только повторяла со всеми:
Слава тебе, Милосердный,
Владыка безмолвных,
Заступник смиренных,
Спаситель низверженных в ад!
Когда вопиют они: «Господи!» —
Ты приходишь к ним издали
И говоришь: «Я здесь!»
В ад низверженной была и она: не придет ли Он к ней, не скажет ли: «Я здесь», – думала она и радовалась так, как будто знала, что там, куда они идут, уже не будет голода и матерям не надо будет красть чужих детей и резать, как баранчиков, чтоб накормить своих.
Первым в левом ряду двенадцати жрецов-нетератефов, несших ковчег, шел Пентаур. Юбра увидел его, и они обменялись взглядами. «А ты как сюда попал, слуга Атонов? Уж не сыщик ли?» – прочел Юбра в глазах Пентаура. «Ну, полно, какие теперь сыщики? Все мы братья», – ответил Юбра тоже взглядом, и тот, казалось, понял, – улыбнулся, как брат.
Шел в толпе и Зен-пророк: мальчик-поводырь вел его за руку. Скорбно до смерти было лицо его, – может быть, он знал, что Кики Безносый прав: только для того и перевернется земля вверх дном, чтобы пришел бог-смерд.
Вышли по улице Медников на священную дорогу Овнов. В самом конце ее тускло-красный шар луны, перерезанный черной иглой обелиска, как суженным зрачком – кошачий глаз, выкатывался медленно из-за святилища Мут.
Вдруг шествие остановилось. Впереди послышался трубный зык, барабанный бой; засвистели стрелы и камни пращей: то была застава нубийских стрелков и пращников, высланных против бунтовщиков.
Одна стрела вонзилась в подножье ковчега. Жрецы опустили его наземь; люди обступили и покрыли бога телами своими.
Натиск нубийцев был так стремителен, что ливийские наемники дрогнули и побежали бы, если бы не подоспела внезапная помощь.
Давеча Кики Безносый, с кучкою таких же, как сам он, удальцов, прошел с Хеттейской площади на ту насыпную дорогу, где работники, тащившие днем исполинское изваяние царя Ахенатона, полегли на ночь спать тут же, на дороге, кто на соломе, а кто и на голой земле. Большей части их Кики не мог добудиться: спали таким мертвым сном, что казалось, если бы земля под ними горела, не встали бы. Но меньшую часть, сотни три, поднял он одним возгласом: «Грабь!» – повел их на заставу нубийцев и, ударив ей в тыл, решил битву в пользу бунтовщиков.