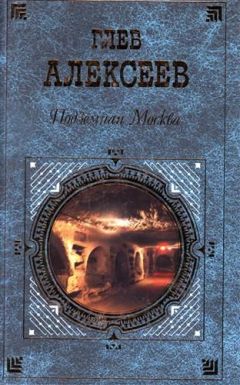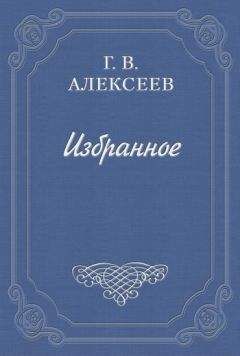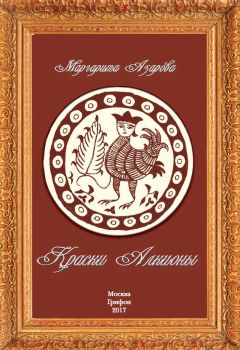Глеб Алексеев - Подземная Москва
– Сейчас мы находимся под церковью Василия Блаженного или где-нибудь около. Мне кажется, что здесь, тотчас за обвалом, ход продолжается далее или вливается в какой-нибудь другой ход. Нам следует приняться за лопаты.
Полчаса спустя дорога вперед была расчищена. Ход действительно продолжался далее, но перед концессионерами открылось его ответвление со спуском вниз, как в погреб. Вниз вели ступеньки, проросшие липковатой плесенью.
– Я думаю, нам следует пойти именно этим малоудобным ходом.
– Я чувствую, герр Кранц.
– Откуда вы знаете это, герр Шпеер?
– Я чувствую, герр Кранц.
– Вы все еще чувствительны, как девушка из Веймара или семидесятилетний Гете при получении новой звезды… – с усмешкой пробормотал Кранц.
Так, ничего не подозревая, концессионеры вышли в коридор, по которому полчаса назад прошли археолог и рабочие. Таким образом, они опаздывали на полчаса: раскопка хода в развалившемся коридоре отняла немало времени.
Каково же было их удивление, когда в толстой нише хода они вдруг заметили человека в нахлобученном по брови картузе, привалившегося головой к камню! От человека исходили странные хрипящие звуки, словно его душили, но, подойдя ближе, концессионеры обнаружили, что человек спал и храпел во сне. Он повел носом от направленного прямо в его лицо света, со свистом вздохнул, отмахнув рукой от лица беспокоивший свет, словно муху, но не проснулся.
– Отличный тип московита двадцатого столетия, – сказал Кранц, – надеюсь, дорогие друзья, вы мне позволите попробовать на этом редком экземпляре действие моих лучей.
– О, конечно, дорогой Кранц! Это отличный экземпляр для опыта. Тем более что по внешнему виду он – отчаянный большевик. Но я думаю, прежде нам следует попытаться прервать этот сладкий, в столь неподходящем месте, сон и расспросить о силах и намерениях противника.
На что герр Кранц добродушно ответил:
– Вы мудры, как сам Кант! – Он тронул Кухаренкин нос носком сапога, а «негодяй» заорал хохлу в ухо:
– Вставай! Вставай, товарищ!
Кухаренко вывел носом столь сложную руладу, что едва не поперхнулся, и продрал глаза. По привычке сначала он сплюнул, матерно выругался и сказал:
– Оттож заснув, бисового батька… – и тут уж окончательно проснулся. – Це що за вшива команда? Яки таки люде, черта вам в зубы? Геть!
Инженеры слегка отступили.
– Покажь мандат, трясьця твоей маме! – наступал он на «негодяя». – Куды, куды залезли, бисовы диты? А ну, покажь мандат!.. Какой такой у тебя пароль-пропуск?
Но Кранц повернул ручку. Стрелка скользнула по зеленоватым цифрам и остановилась на тридцати. Тогда из камеры вырвалась тупая фиолетовая молния, она ударила в поднятую хохлом мотыгу и зажгла ее. Мотыга, словно сухая трость, вспыхнула ржавым мгновенным пламенем и выпала из его рук. Хохол раскрыл рот, словно хотел еще крикнуть: «От, бисовы диты!» – и вдруг рухнул на камни, пораженный внезапным сном…
Глава шестнадцатая. Разговор о некоторых пустяках
Иностранцы продолжали путь.
– Скажите, дорогой Кранц, – вдруг спросил Шпеер, – что вы испытываете, когда вам приходится во имя науки убивать живое существо?
– Я не понимаю вопроса! – удивленно отозвался тот.
– Ну, например, когда вы своими лучами убиваете человека?
Эта фраза герра Шпеера окрасилась некоторым оттенком грусти.
Все же он был правоверным немцем из Веймара, в котором живали и Гете, и Шиллер, и даже румянощекие романтики не раз собирали там голубые цветы.
Кранц ответил чистосердечно:
– Вы знаете, Шпеер, я об этом как-то еще не подумал!
– А вы подумайте, дорогой Кранц.
– Вы обязательно подумайте! – с иронией посоветовал Шпеер.
– Хорошо, – сказал Кранц серьезно, – я обещаю вам подумать об этом, но, дорогой Шпеер, когда всю жизнь занят двигателями, лучами и электричеством, не остается времени думать о пустяках; вы знаете, я не поклонник Гете. Я думаю, что только двигатель есть вещь, а прочее все – гиль!
– Браво, Кранц, вы становитесь европейцем больше, чем это нужно!
Но тот с легкостью отпарировал и этот удар:
– Иначе, дорогой Шпеер, мы с вами не были бы здесь! Так, разговаривая о всяких пустяках, концессионеры подошли к отверстию, из которого вел спуск в пещеру с черепами. В ходе меж тем становилось душно, озонатор ослабевал, «негодяй» расстегнул воротничок своего спортивного костюма и потихоньку стирал пот на лице. По правде сказать, он думал, что черт знает для чего «влип в здоровенную кашу». «Какое там золото, – с тоской рассуждал он, – и, право, лучше просто удрать от этих полосатых чертей. О, с ними шутки плохи! Он в этом убедился. Погиб же вот симпатичный русский мужик с пушистыми усами! Погиб ни за понюшку! Погиб за окорок! И если в подземном Кремле ничего не найдут, не случится ли…»
– Следы! – вскричал Кранц.
Шпеер наклонился к самой земле и с минуту внимательно изучал следы шести различных сапог, уходивших в глубину колодца. Русские уже прошли. Теперь это было очевидно. Кранц предложил не спускаться в колодец, а подождать возвращения русских здесь. Не для прогулки же они влезли под землю? Если они откроют следы библиотеки, то он, инженер Кранц, готов без ошибки направить на отверстие колодца свой аппарат…
И так как ему никто не ответил, он повернул «прибор смерти» в отверстие нового хода и брызнул в него длинным фиолетовым лучом рассеянного тока. В торопливо перебегавших пятнах света иностранцы увидели скелеты, черепа с темными пробоинами глаз и кости рук, протянутых к ним так близко, словно руки хотели их схватить. Впечатление от этой картины было настолько жуткое, что «негодяй» заслонил лицо руками и, словно наседка, присел на пол. Конечно, дальше он не сделает ни шагу! Даже настроенный отнюдь не романтически инженер Кранц несколько смешался. Что угодно, но подземных кладбищ он не ожидал… Впрочем, он очень скоро оправился от смущения.
– Дорогой герр Басофф, – сказал он, – вы участвуете в экспедиции как знаток русского народа и его истории, не правда ли? Не объясните ли вы нам, кстати, что обозначает этот склад человеческих скелетов на глубине пятнадцати метров под Москвой?
Тогда «негодяй» коснеющим языком принялся врать о том, чего он не знал об Иване Грозном.
Глава семнадцатая. В которой есть несколько слов о пользе археологии
Когда в новое отверстие просунули фонари, оказалось, что даже соединенного света четырех лампочек не хватает, чтобы осветить новую пещеру. Опустившись на колени, археолог обнаружил, что погреб западал вниз, ступеньки, словно оседая, уходили в пол, земля становилась рыхлой и пахла дохлыми кротами. На мгновенье жуткая, почти физическая нерешительность овладела им. Так часто бывает с людьми, слишком крепко верящими в одну какую-либо возможность. Если бы свет фонариков падал на лицо, а не шуршал робкими тенями по желтоватому лесу этой типичной неолитической пещеры, на жестком, прорубленном его лице можно было бы заметить нечто близкое к отчаянию. Он был археологом – и только! Впрочем, этого было не раз достаточно, чтобы считать свои расчеты с жизнью поконченными; он помнит свой последний поход в Холодный Яр. Кто знает, что и с каких времен таил в себе этот широко шумящий лес, пристанище гайдамаков, еще со времени Гонты и Железняка! Лес протянулся на десятки верст, и под самым Матронинским монастырем, столицей непокорной гайдамацкой силы, светятся кусты радугой волчьих глаз, и злы медведи, потревоженные на лесных пчельниках. Он ночевал в пещерах, уходивших в темное нутро земли, слышал, как бьется ее сердце по ночам и как перекликаются под утро простуженные волчьи голоса, озлевшие от голода. В революцию в Матронинские леса ушли повстанцы и жили в них, как жили во времена Запорожской Сечи, светясь по ночам волчьими глазами костров, катясь шалой дробью винтовок, катясь песней, все равно неслышимой в глухих просторах. Тогда встреча в лесу с человеком была еще страшнее, чем встреча с волком. Костлявый старичок, в проклеенном по ободку сургучиком пенсне, влюбленный в прошлое, как в невесту, две недели упрямо дрожал в лесу, в пещерном ходу, так же, как сейчас, пахшем теплой гнилью земляного нутра, и вряд ли не самыми лучшими днями его жизни были эти незабываемые дни… Человек прошлого бережно прятал в землю самый надежный свой кошелек, лучшее, чем он владел: золото, доспехи, верный меч и верную лошадь и после смерти – свою жену. Он глубоко зарывал их в пещеры и в курганы, страшась, что разроют сыновья и внуки, и, не страшась, что через столетия их разроют другие люди, которым не нужны проржавленные мечи и запястья добровольно сходящей в могилу жены, которые бережно унесут их в музей и в хранилища, чтобы вместе с песней, вместе с величавой балладой о прошлом – память о нем понести к вечности. О, какая жуткая, какая прекрасная минута, когда в Ольвии, на берегах Тясьменя, в Холодном Яру или здесь – в Московском подземном Кремле – под ударом упорной лопаты вдруг выступит из мертвого прошлого кусок живой жизни, чтобы показать еще одну ступень, по которой из глухого неведомого небытия прошел человек к пиджаку, к автомобилю, к электрическому утюгу. Итак, еще раз вперед!