Григорий Данилевский - Мирович
В средине великого поста, в 1762 году, прошёл слух о появлении на Фонтанке, в деревне Матисовке, близ нынешней Коломны, целой шайки вооружённых грабителей. Пётр III вышел из себя.
– О-го-го! Tausend Teufel![43]-сказал он Корфу. – Пора опять приняться за виселицы! Дед мой Пётр знал это лучше всякого из нас… Напишу: «approbatur – Peter»[44], и кончено, – увидите… о, ja!..[45]
Виселицы, однако, не поставили. Беспорядки длились, и к ним привыкли, как к чему-то, без чего нельзя было обойтись и ужиться. На всякий уличный переполох, как на театр, в соседних домах поднимались окончины, и нарядные дамы выглядывали оттуда, следя с любопытством из-за модных вееров, чем кончится казус.
Частные здания на Невском, со стороны Адмиралтейства, тогда начинались лишь от Полицейского моста. Отсюда, вплоть до Аничкова, по правой и левой сторонам проспекта, было немногим более десятка домов, да и то наполовину деревянных. Домовладельцы на главных улицах были большей частью иностранцы или инородцы. У разъездной площади временного Зимнего дворца, выходившего на Мойку, на Невский и Луговую, ныне Морскую, был дом купца Дюбиссона, с надписью на вывеске:
«Продажа гамбургских канареек и попугаев».
В Кирпичном переулке, наискось против нынешнего ресторана Дюссо, был дом банкира Кнутсена. На углу Гороховой и Луговой – дом красильщика Краузе; у Синего моста – вывеска шорника Матьяса Заккова. Немного далее, по Мойке, – цветочный магазин Вольфа, с надписью:
«Изрядные ананасные планты».
Ещё далее, по Вознесенскому проспекту, – дома: Пильхау, Рашке, Зушке, Хабасова и Клуга. У Вознесенского моста, на берегу Глухой речки, ныне Екатерининский канал, – заведение оконного мастера Берга.
Придворные сады – Летний, Итальянского дворца на Литейной, в Екатерингофе и на цветочных променадах Царицына Луга – были открыты для публики. Но в них не пускали матросов, ливрейных лакеев, женщин с платками на головах, мужчин в сапогах, а не в башмаках, и вообще – как тогда говорили в газетах и в публикациях полиции – «подлого народа». Требовались модные и красивые одежды. По указу императрицы Елисаветы ставили клейма на фалды господ, являвшихся ко двору в старых или вышедших из моды «несообразных кафтанах». После самой императрицы осталось пятнадцать тысяч почти новых платьев, несколько тысяч башмаков и два сундука чулок и лент. Между тем мясные, зеленные и рыбные лавки, кабаки и постоялые дворы невозбранно распространяли запах грязи и всякого сора, валявшихся в них и возле них. Утончённая Европа и дикая, неумытая Азия уживались рядом друг с другом.
Болотные лихорадки, повальные горячки, оспа, скарлатина и корь не покидали Петербурга. Врачей в то время было мало, и те брали непомерно дорого. Модные врачи, Монсий и Фузадье, брали, не стесняясь, по пятнадцати червонцев за визит. Обучение детей сплошь было в руках невообразимых проходимцев. Некая иностранная фамилия «шляхетного и честного рода» печатала о себе в тогдашних газетах, что она «учит девиц, по понятию каждой, языкам, шитью, экономии, танцам, а притом и чтению «Ведомостей». Другая, иноземная же особа, а именно – некоторая г-жа Ренуард (адрес: Миллионная, в доме портного Экка) публиковала, что обучает девиц языкам, арифметике, географии, истории – «а также и писать».
В казённые и домашние учителя нередко попадали забираемые по понедельникам со съезжей уличные «шататели» и «пьянчужки», замешанные иногда в дебошах, кончавшихся смертоубийством.
Благородные девицы перенимали друг у друга тайны, как затягивать получше талии, как делать реверансы и налепливать на лицо мушки. В косметических лавках продавались особые, красивые коробочки с чёрными мушками. При найме женской прислуги спрашивали тогда:
– На хозяйских ли румянах и белилах?
Знатные и богатые люди заботились о составлении библиотек из французских книг, в которые, впрочем, немногие из них заглядывали. Мужчины учились у мужчин, как надеть круглую вощанковую или треугольную пуховую шляпу; как открыть табакерку, оправлять на манжетах алансоны[46] и пуан-дешпаны, нюхать табак и вынимать и встряхивать цветной, пропитанный духами a la Reine, фуляровый[47] платок. Парикмахеры на Морской и на Невском завивали букли и заплетали и пудрили косы русским петиметрам[48], назначавшим друг другу вечерние свидания в невышедшем ещё из моды, со времён Лестока, трактире савояра[49] Берляра и Иберкампфа, в гербергах, погребах Гантовера, Ретса и в вольных домах, австериях Винклерши, Шмидши, Кохши и других.
Государыня Елисавета Петровна ездила запросто на вечеринки к вельможам, кутая своей муфтой и платком руки и горло провожавшему её графу-мужу Алексею Григорьевичу Разумовскому, под письмами к которому она в шутку подписывалась: «Ваш первый дишкантист».
У постели же её, по простоте, со времён ещё её девичества, на разостланном тюфячке, для охраны её, спал на полу старичок, любимый её камердинер, впоследствии генерал-аншеф Василий Иванович Чулков. Государыня, вставая иной раз ранее его, будила верного слугу, а он трепал её по плечу, зевая и ворча:
– Ну-ну, лебёдка моя! уж ты и встала.
Друг Елисаветы, Мавра Егоровна Шувалова, урождённая Шепелева, писала к ней: «Ваша раба и дочь, и холопка и кузына», а мужа Шуваловой Алексей Разумовский, подгуляв на охоте, бил батогами.
Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли в её апартаментах мышей, особыми указами выписывались из Казани умелые и «пристойного вида» сибирские коты, а из-за границы мартышки «столь малые, чтобы входили в индейский кокосовый орех». Костромская помещица, Анна Ватазина, письменно предлагала государыне, коли произведут её мужа в коллежские асессоры, поднести в дар четырёх собак: Еполита, Женету, Маркиза и Жулию. В молодости Елисавета, цесаревной, писала нежные мадригалы:
Я не в своей мочи огонь утушить.
Сердцем болею, да чем пособить?
При Елисавете по улицам было видно более мирных статских. При Петре III Петербург стал наполняться разнокалиберными и дравшими нос военными.
На дворцовом плацу, чуть не ежедневно, производились шумные – с криками «виват», маршировками и всякими муштрованиями – вахтпарады. По улицам озабоченно и торопливо скакали адъютанты, сновали пешие и конные вестовые. Петровские широкие и длинные кафтаны гвардии и армии заменились куцыми и узкими мундирами, на манер прусских. Исконный зелёный цвет кафтанов и красный – воротников и камзолов – разрешено заменять, по произволу командиров полков, оранжевым, голубым, лиловым, канареечного цвета и всяким. Пётр III ввёл ещё аксельбанты и эспантоны[50], трости у офицеров и урядников. Он же отменил ношение на вахтпарады за капралами и унтер-офицерами слугами их ружей и алебард.
В начале великого поста Пётр Фёдорович издал повеление: всем сановникам и вельможам, носившим титулы командиров взводов, баталионов и полков, быть неотлучно на учениях, во главе своих частей. Это приказание привело всех в неописанный конфуз. Публика с изумлением увидела марширующих по улицам, по щиколку в грязи, перед своими баталионами и взводами, генерал-фельдмаршалов: графов Александра Иваныча Шувалова и изнеженного сибарита и сластуна Алексея Разумовского, дядю государя – принца Жоржа и больного одышкой, в бархатных штиблетах на опухших, подагрических ногах, князя Никиту Юрьевича Трубецкого. Гетман Разумовский даже нанял особого голштинского офицера для уроков новой муштровки. Придворные и статские чины были не менее озадачены. Парикмахера своего Брессана государь назначил в директоры фабрики гобеленов и произвёл в камергеры; ямщика же, какого-то Патрикеева, в титулярные советники.
Перед пасхой Пётр III писал к своему другу королю Фридриху, что, не остерегаясь ничего и никого, он предаёт себя на волю Бога и в охрану своему народу и без провожатых по Петербургу ходит пешком.
IV
ДРЕЗДЕНША
У Вознесенского моста стоял обветшалый и огромный, с кучею амбаров, конюшен и покосившихся флигелей, деревянный, с поросшей мхом кровлей, дом царевича Леона Грузинского. Через переулок за ним был такой же старый дом камер-фурьера Рубановского. Сюда, после неудачной справки у Крашенинникова, под вечер, подошёл Мирович.
Его озадачили крики и песни пьяной черни, вырывавшиеся из грязного тёмного кабака на углу этого дома, рядом с вонючею рыбною лавкой. Он поднял глаза – на соседнем балконе, выходившем на проспект, были вывешены для проветривания какие-то шубейки, подушки и детское бельё. Убитая кошка валялась среди улицы.
«Нет, Кенигсберг не в пример лучше и чище Петербурга; там аккуратнее и такого неряшества не позволят!» – подумал Мирович, с трудом перейдя через растаявшую обширную лужу у спуска с Вознесенского моста. Он вошёл к Рубановскому. Ему сказали, что Василий Кириллыч, хотя и у себя, но после обеда перед всенощной почивает, а потому, если ему есть надобность, не угодно ли подождать.

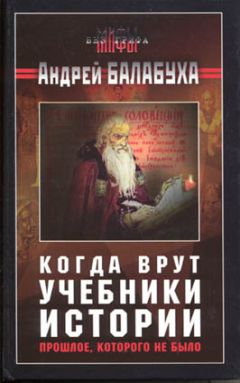
![Андрей Балабуха - Когда врут учебники истории. Прошлое, которого не было [без иллюстраций]](/uploads/posts/books/168497/168497.jpg)
