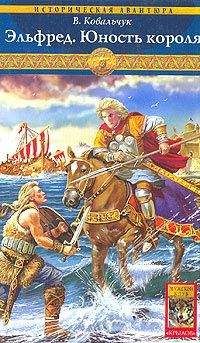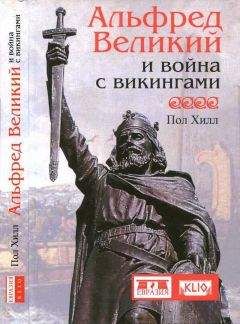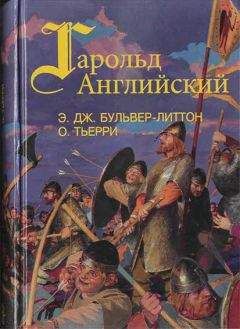Борис Дедюхин - Василий I. Книга первая
— А это что? — кивнул княжич на деревяшку.
— Ничего больше от братцев не осталось, а они много чего из дерева делали. Если бы не померли, так бутыль бы из этого чурбачка выточили, видишь, вон уже начали долбить внутри.
Она склонила голову, с серьезным выражением пошептала над бедным памятованьем своего разоренного дома:
— Чур меня! Чур меня!
Василий сосредоточенно внимал ей, повторяя про себя древние слова с глубокой верой в их темный спасительный смысл.
Дети печально постояли молча. Многое вмещалось для них в этом кратком заклинании: и обращение к домашнему очагу, к предкам, к пращуру с просьбой о помощи, и предостережение нечистой силе — не касайся, не трогай меня.
Вошел в избу один из отроков с большим узлом в рутах. Опустил его на лавку, сказал с полупоклоном:
— Это великий князь велел поднести, — и выскользнул из избы.
Янга пугливо смотрела со стороны, замерев, не смея приблизиться. Василий развязал тонкие концы, и в полутемной холодной избе полыхнуло узорочье никогда не бывалых здесь нарядов. По подолу белого сарафана шла широкая кайма красной шерстяной вышивки: зубчики и башенки, обведенные еще кое-где черненьким для резкости. Шелковый платок — не поймешь даже из какой страны: сам синий, как река под ветром, а павлины хвостатые с золотыми и малиновыми перьями. А сафьяновые сапожки Василий и разглядеть не успел — только блеснула, мерцая, отделка из серебряных кружев. Янга цопнула сапожки, прижала к груди, прихватила костлявой ручонкой сарафан с платком — только павлины и мелькнули! — унесла все в чулан, будто не могла поверить, что это все принадлежит ей теперь навсегда. Медленно-медленно, скрипя, приотворилась через некоторое время дверь чулана, и милое тонкое личико в богатой оправе платка, повязанного домиком, показалось Василию, но не лукавство, не удовольствие играло в глазах Янги — вернулась разряженная, а выглядела все равно такой несчастной и жалкой, словно подраненная птичка. Нешто догадалась она, что вся эта одежда, пожалованная ей, — уже ношеная, оставшаяся после смерти сестренки Василия?
Когда спускались с крыльца, сгнившая доска провалилась под ногой Василия. Он не сразу поднялся, выпрастывая ногу из трухлявых обломков. Вскинул глаза на Янгу и увидел на ее лице испуг. А еще — участие, готовность помочь, пожалеть. Ему ничуть не было больно, но словно бы слезы подступили и хотелось, чтобы она и вправду его пожалела. Но она не посмела ни спросить ничего, ни руки подать.
Вышли во двор. За полуразвалившимся тыном стояли оседланные лошади: отцовский белый аравийский конь — сказочное диво и вовсе будто с иконы спрыгнувший — Голубь. Увидев их, Янга замерла на крыльце как завороженная.
— И мне можно с вами?.. Это правда? — еле слышно прошептала она, только сейчас поняв, что произошло с ней.
Один из слуг протянул ей руку, помог взобраться на коня, посадил перед собой.
Предстоял долгий путь к обители Сергия Радонежского. Много починок да селищ, пустошей да печищ встретится. Это все крестьянских рук дело, это все черные земли — великокняжеские; собственно великому князю ли принадлежащие либо же тяглые, волостные или становые — в разной степени подчинения московскому великому князю. Эти земли находятся как бы в вечном пользовании крестьян, живущих на них, за это они платят князю дань и несут в его пользу разные повинности. В сознании крестьян великокняжеская земля резко выделяется среди земель боярских или монастырских. И Селения свои они называют слободами, потому что считают себя свободными от власти и суда княжеских наместников, одному лишь князю подчиняются. И когда Некрас с Товарищами пришел с челобитной из вологодских земель, он знал про себя: «земля великокняжеская — это наша, крестьянская земля». Вот почему он и его товарищи так верили в силу и правду князя, так желали его суда, искали в нем своего заступника.
Вера в доброго князя и в его правду была полной и безоговорочной. Василий, странствуя с отцом, все отчетливее это понимал и готовил себя к поступкам только добрым, милосердным, справедливым.
Глава III. Злых лютых зелий мешок
Всякий исторический деятель, в известной степени, есть произведение своего века, и значение его деятельности определяется тем, как он содействовал решению задач своего времени относительно своего народа и относительно других народов, в обществе которых его народ живет, ибо эти две стороны неразрывно связаны.
С. Соловьев 1Не сумев убедить великого князя в своей ему необходимости, не овладев затем Москвой приступом, Киприан первым на Руси взялся за новое оружие, одновременно и слабое, и опасное, — за перо: он обратился с посланием к Сергию Радонежскому и Федору Симоновскому в надежде, что через них его сочинение станет известно многим русским людям, а прежде всего Дмитрию Ивановичу. Расчет был безошибочным.
Узнав, что о недавнем задержании и высылке Киприана из Москвы пошла людская молва, Дмитрий Иванович решил заехать к преподобному Сергию в Маковец.
Некогда олицетворением сильной личности на Руси были богатыри, сейчас, хотя время оставалось по-прежнему богатырским еще, представление о сильных людях определялось не столько их телесными данными, сколько нравственными добродетелями, носителями которых были монахи — свято живущие подвижники. Игумен Сергий ранее всех и более всех благочестивых пустынножителей снискал уважение русского народа, получил в его глазах Значение покровителя церкви и великокняжеской власти, он стал отцом множества обителей, основанных его учениками и подвижниками.
Троицкий монастырь лежал как раз на полпути между Переяславлем и Москвой, так что многочисленная свита князя, не посвященная в его тайные мысли, могла расценить заезд сюда как самую удобную возможность для отдыха и трапезы.
Монастырь хоронился в чащобе леса, с дороги можно заметить лишь поблескивающую маковку островерхой церкви. Из-за этой видной издалека позолоченной маковки и принято говорить было, что монастырь сам на Маковце — на вершине будто бы, на горе, на самом же деле местечко, где некогда сел Сергий на пустынножительство, сотворив первоначальную одну одрину хижину, находилось в низине, во впадине, на реке Консере[3]. Над бревенчатым тыном, потемневшим от солнца и дождя, выглядывали покрытые цветами ветки рай-дерева, из чего просто было сделать вывод, что монастырь этот уже давнишний — поживший и обустроившийся на своем месте насельник.
Банные ворота были открыты, на подворье стояли две распряженные лошади. Из окна монастырской застольной доносилось стройное негромкое пение: Василий не разобрал слов, но понял, что монахи сотворили возношение Святой Троице — значит, заканчивали трапезу.
Великий князь еще и не спешился, как к нему приблизился, семеня мелкими шажками, один из иеромонахов и сказал, что пастырь поутру отбыл к Федору Симоновскому.
Это сообщение еще более укрепило Дмитрия Ивановича в необходимости непременно объясниться с влиятельными монахами о будущем руководителе русской митрополии, и он решил не мешкая посетить Симонов монастырь, хотя это было уже и не мимоездно — надо сворачивать с главной дороги на юг и спускаться по берегу Москвы-реки.
Выезжая из ворот, Дмитрий Иванович оглянулся — все монахи высыпали из дверей затрапезной и, одинаково черные, как стая, галок, почтительно провожали взглядами великокняжескую свиту. У стен поварни и пекарни, возле огородных тынов жались нищие, странники, калики — дети монастырского страннолюбия и нищелюбия.
Совсем недавно была здесь одна лишь неприметная келья. В двадцатилетием возрасте после смерти родителей — бояр ростовских, отказавшись от наследства и всей мирской суеты, Сергий (это имя получил он в монашестве, а до пострижения был Варфоломеем) поселился в непроходимом лесу. Больше года прожил в совершенном одиночестве, подвергаясь лишениям и риску быть растерзанным зверьем, преодолевая скорби, тяжкие труды, искушения. Один он знает, что за муки, неизбежные при таком уединении, довелось ему вынести, пока стало известно: в таком-то глухом месте спасает душу великий труженик. Он был крепок и ловок от рождения — «силен быв телом, могый за два человека», как напишет о нем потом его ученик и сподвижник Епифаний, особенно любил плотничать и столярить. Своими руками построил он келью и храм во имя Животворной Троицы. И потянулись к нему монахи один за одним, начали строить возле него свои кельи. Надо думать, Сергий был рад приходу сотоварищей. Не только потому, что, как сказано в Святом Писании, «двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть добрые вознаграждения в труде их, ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего; но горе одному, когда упадет, и другого нет, который поднял бы его». Страшнее была опасность духовная, потому что пустынник, исполняя одну заповедь — любовь к Богу, невольно нарушает другую — необходимость проявлять любовь к ближнему.