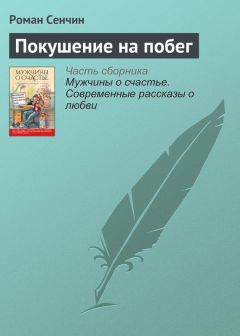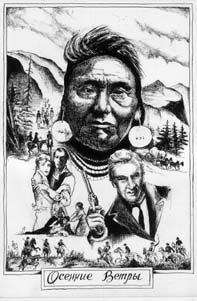Юлия Глезарова - Мятежники
– Ты же говорил, что самоубийство – грех?
– Бог простит. Без тебя мне жизнь – ноша невыносимая. Ты ведь старший…
Матвей глубоко и прерывисто вздохнул.
– Надо жить, Матюша, – тихо произнес Сергей, – или меня убей – или живи.
– Хорош выбор.
– Хорош, не хорош, а иного нет…
Матвей повернулся к брату.
– Думаешь – у меня духу не хватит?
Сергей пожал плечами.
– Не знаю, Матюша. Только я тебя одного туда не отпущу, так и знай!
Внизу хлопнула дверь, раздались голоса: приехали сестры и Ипполит. Сергей вскочил, торопливо спрятал пистолет, бросил в огонь прощальные письма. Отошел к окну, поправил занавеску.
– Спой, Сережа, – тихо попросил Матвей.
– Рад бы, да не могу. Извини.
– Почему?
– Как увидел тебя… с пистолетом… горло перехватило. Уже с полчаса не отпускает…
– Это ничего: пройдет. Спой – и пройдет.
– Не могу! Не прости, брат, не могу. Боюсь совсем голос сорву, если сейчас петь… Говорю-то с трудом, сам что ли не слышишь… Как я так забыться мог, что ту самую арию при тебе петь стал? Ведь знал, знал…Все забыл, эгоист ничтожный! Прости!
– И ты меня прости… Спой.
Сергей опустил голову.
– И мог бы – не стал, – тихо с отчаянием произнес он, – в ушах, в сердце – везде! Та ария… Чтобы не начал – на нее собьюсь…
После возвращения в Россию, Сергей подал рапорт с просьбой о переводе в Семеновский полк. При переходе в гвардию он стал из капитанов – поручиком. Правда, гвардии поручиком, да еще Семеновского полка…
Полк сей был весьма необычен не только для армии, но и для гвардии. В нем не били солдат. Офицеры часто предпочитали чтение книг и разговоры о философии и политике, балам, обедам и театру. В полку не было принято куролесить и открыто развратничать, как это делали кавалергарды. Службу семеновцы несли исправно, но в свободное от разводов, парадов и караулов время позволяли себя всякие вольности – как по форме, так и в мыслях. Разговоры же у них были такие же, как и мысли, потому что тон в полку задавали те, кто прошел последнюю военную компанию – и особенно Бородинское дело. У тех, кто провел день под огнем артиллерии, не было секретов друг от друга.
Гвардейский полк на Бородинском поле потерял половину людей, не сделав не единого выстрела. У генералов не нашлось времени и места, для того, чтобы перевести полк в более безопасное место. Солдаты и офицеры молча ждали приказа – и гибли под огнем французской артиллерии. Жизнь их зависела от чистой случайности – ядра били из-за пригорка, вслепую. Невозможно было угадать – кто будет следующим. Невозможно было понять – зачем и кому все это надо – бессмысленная гибель хорошо обученных солдат и опытных офицеров, а еще – нескольких мальчишек, вступивших в службу накануне компании и еще не нюхавших пороху.
Сцена расстрела Семеновского полка навсегда запечатлелась в памяти Матвея. Позже он нередко рассказывал о том, как это происходило – и потом находил свои рассказы в книгах писателей, вошедших в моду спустя полвека после войны 12-го года. Граф Лев Толстой, отставной артиллерийский поручик, прошедший позорную для России Севастопольскую компанию, весьма подробно расспрашивал Матвея о Бородинском деле. Но даже с ним Матвей не стал делиться своими размышлениями о причинах столь бессмысленного и нелепого расстрела гвардейского полка. Хватит с того, что отцы намучались, зачем еще детям знать?
Те, кто были на Бородино выжили чудом – и, казалось, сроднились навеки… Одна, тайная мысль объединяла их: все они чувствовали себя не сынами, но пасынками отечества. Невозможно было представить, чтобы маменька и папенька так обращались с детьми, как отчизна и государь император обошлись с Семеновским полком.
Существовало одно-единственное объяснение для этого безумия.
Семеновский полк был в карауле в Михайловском замке в ночь убийства Павла Первого. Среди его солдат и унтер-офицеров были те, кто знал убийц не только по имени, но и в лицо. Смерть Павла была главной тайной России – то, что его убили, знали многие, но верховная власть и послушные ей газеты писали только об «апоплексическом ударе». Другая версия считалась изменой и каралась строго. Сами цареубийцы были живы, здоровы, хоть и отправлены в полнейшую отставку. Причиною того, что Александр Павлович так ревниво оберегал тайну гибели Павла Петровича, вполне очевидна – хоть он и не участвовал в заговоре, но мог предотвратить гибель отца. Его бездействие было равно отцеубийству. Освободителю России и Европы, победителю Наполеона, благодетелю Польши, всеобщему и всеми обожаемому Ангелу, не хотелось вспоминать о том, как страшно погиб его папенька. А раз государь не желает о сем помнить – то к чему империи лишняя память?
То, что в бойне под Бородино Александр руками противников уничтожает свидетелей своего преступления, стало ясно Матвею именно там, на Бородинском поле.
Они были абсолютно беспомощны, не имели права двигаться с места, оставалось только ждать – куда ударит в следующий раз и пытаться чем-то занять себя, чтобы не сойти с ума. Матвей пытался понять – за что? И не смог найти иного ответа. Он выжил в тот день и даже не был ранен. И понял, что догадка его – странная, но, возможно верная. Позже, он думал, что она, верно, пришла в голову не ему одному – всех офицеров полка словно бы объединяла некая тайна – то, о чем можно говорить только в узком кругу посвященных.
Впрочем, младший брат Сережа тоже знал правду об убийстве Павла. Еще тогда, в Париже, во время очередного отпуска из пансиона, он рассказал маменьке о словах Анри. Та уже знала от господина профессора, что сыновья были наказаны. Когда же Сережа рассказал ей, из-за чего он подрался, она сделалась очень грустна, и тем же вечером, перед сном сказала старшим сыновьям, что французские газеты писали чистую правду – император Павел был задушен офицерским шарфом и сокрушен табакеркой в висок. Сие, по словам маменьки, было ужасным преступлением, о коем ведает весь мир – кроме их любезного отечества. Посему Анна Семеновна попросила сыновей не касаться печальной темы в разговорах с секретарем русского посольства, который учил их русскому языку.
Они послушно дали ей слово молчать – и сдержали его.
После войны у Сергея были мысли оставить службу и уехать за границу, но папенька решительно отказал ему в деньгах на сии прожекты. Пришлось решать, где именно продолжать служить, Сергей недолго раздумывал – он хотел быть рядом с братом. После того случая в Москве Сергей тревожился за него. Хандра находила на Матвея все чаще – сперва, начинала ныть и болеть раненая нога, потом – душа, все вокруг становилось серым, неинтересным, ненужным. Только Сережино пение лечило и успокаивало, да друзья-сослуживцы теребили, втягивали в какие-то разговоры и заговоры – иногда опасные.
Впрочем, после войны и смерти Лизы, Матвей мало чего страшился. Иногда ему казалось, что на свете нет ничего, что способно его удивить или испугать. Он ко всему относился спокойно, а в минуты хандры – равнодушно. Даже к смерти.
Единственное чувство, которое осталось в нем неизменным с довоенных времен – любовь к брату. Остальные чувства и ощущения были столь эфемерны, что он сам поражался: он влюблялся каждый месяц в разных барышень, но проходило несколько недель – и он решительно охладевал к предмету страсти нежной, смотрел и сам удивлялся – отчего я так страдал, отчего я только ее одну хотел видеть – месяц назад? Отчего другая барышня сегодня занимает мои мысли? Причины охлаждения каждый раз были разные – одну барышню он разлюбил за то, что она не знала хорошо по-французски, вторую – за то, то знала по-французски слишком хорошо и прочла несколько романов, кои ей читать не следовало; третью – за то, то она предпочла ему гусарского полковника сорока лет от роду, четвертую – за то, что она была слишком увлечена им и даже написала ему письмо с признанием в любви. К несчастью, письмо было написано слишком поздно – на третьей неделе знакомства: чувства Матвея уже угасали и он прочел барышне мягкую отповедь, призвав ее не делать так больше, ибо далеко не все мужчины могут поступить с ней благородно…
Барышня поплакала и, спустя полгода, вышла замуж за генерала. Узнав о свадьбе, Матвей захандрил было, но тут заболел Сережа и все остальные заботы отодвинулись – Сергей болел редко, но тяжело и главное – молча. Он стоически терпел любую боль и неудобства, боясь обеспокоить Матвея своими жалобами, в результате запускал болезнь, пока она не принимала опасный характер. Стоило Сергею заболеть – Матвей забывал о своей хандре. Лекарское искусство весьма интересовало его: он читал книги по медицине и любил беседовать с докторами. Сам он привык лечиться с юных лет: маменька считала, что у него больные ноги, хотя на самом деле вся его хворь заключалась в двух сросшихся пальцах на правой ноге. Но Сергей в детстве не страдал ничем, кроме насморка – поэтому любое его недомогание настораживало Матвея. Зная, что брат скорее умрет, чем станет жаловаться, он взял за правило подробно расспрашивать о здоровье, по десять раз на дню щупать его лоб, проверяя – нет ли жара, пожимая руку, быстро проверять пульс и вызнавать о болезни не по жалобам, а иным признакам. Это стало для него почти манией – наблюдая за братом, он словно бы учился на лекаря – и сие было ему весьма интересно. Пожалуй, гораздо интереснее всего остального, чем ему пришлось заниматься после войны.