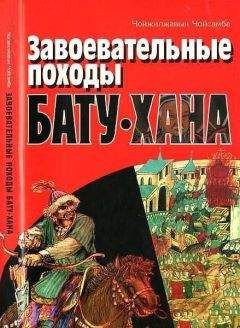Лев Никулин - России верные сыны
— Разумеется… Желаю повеселиться и весело провести день и вечер.
Они простились.
Можайский почти не чувствовал усталости, когда за ним пришла все та же пожилая кокетливая дама и пригласила в танцевальный зал.
Он прошел за ней через полутемный коридор, поднялся по винтовой лестнице и остановился, ослепленный светом и оглушенный оркестром, гремевшим на хорах, у него над головой.
День догорал, в зале уже зажгли алебастровые лампы и сотни свечей. Смех, восклицания, гром музыки — все это после лесной тишины ошеломило Можайского.
Полукруглый зал был наполнен танцующими парами. Он угадал — общество было то же, что и во времена его детства в домах у польских и литовских помещиков. Однако картину оживляли мундиры офицеров, доломаны и ментики польских гусар. Дамы тогда уже одевались в тяжелые, затканные золотом платья из лионского бархата, в моде были кашемировые шали, но в этих местах все еще носили белоснежные одеяния эпохи Директории.
Вальс не достиг этих отдаленных углов. Впрочем, мода на вальс широко распространилась лишь после Венского конгресса, когда, по выражению мемуаристов, король вальса Ланнер дирижировал вальсом королей. В замке Грабовской танцевали кадриль, кадриль-лансье — церемонный и неторопливый танец. Кавалеры и дамы шли навстречу друг другу, отвешивая друг другу поклоны.
Можайский подумал о том, что прежде всего следует представиться хозяйке. Анна-Луиза Грабовская — это имя казалось знакомым, когда его назвал Чернышев… И только сейчас он вспомнил: это та самая дама, которую чудом спасли из пламени, когда случился пожар на балу у князя Шварценберга, австрийского посла в Париже.
Это было 1 июня 1810 года, когда империя Наполеона была в апогее величия и славы. Австрийский посол князь Шварценберг дал праздник по случаю свадьбы Наполеона и Марии-Луизы, дочери императора Франца, В одну ночь был построен из дерева просторный танцевальный зал. Его осветили тысячами свечей, убрали гирляндами роз и расписными щитами с вензелями молодоженов. Внезапно загорелся один из бумажных щитов, и тотчас пламя охватило весь танцевальный зал. Мужчины в расшитых золотом мундирах, женщины в тяжелых бархатных платьях, в бриллиантовых диадемах с криками метались в пламени. В огне погибла невестка австрийского посла, княгиня Шварценберг, и многие именитые господа и дамы.
За несколько минут до пожара Можайский вышел разыскать карету Куракина, русского посла в Париже. Здесь, в первый и в последний раз в жизни, он увидел Наполеона. Освещенный пламенем, Наполеон стоял на площади, окруженный придворными, и отдавал приказания саперам и пожарным. Даже на пожаре он никому не уступал права командовать, и в памяти Можайского остался смуглый человек небольшого роста, в мундире гвардейских егерей, освещенный колеблющимся пламенем. Обрушилась крыша, полетели горящие головни, а он все стоял, покрикивая на пожарных, и тысячная толпа на площади смотрела на него, а не на горящее здание…
Приняв непринужденный, слегка скучающий вид, Можайский прошел в боковую галерею. Там ему открылась смешная картина: на диванах и в креслах спали люди, одетые в старопольскую одежду, в голубые, желтые кунтуши с откидными рукавами.
Вдруг в зале снова заиграла музыка, раздался грохот каблуков и звон шпор. Кое-кто из спавших в креслах поднял голову. Двое, трое вскочили и устремились на звуки музыки. В зале развевались белоснежные платья, сверкали драгоценные камни, звенели шпоры, и Можайский подумал: «Да, эти баловни судьбы могут спокойно пировать и веселиться, они обязаны этим весельем ста тысячам русских, навеки уснувшим на Бородинском поле, под Красным, под Малоярославцем…»
Он горько усмехнулся и хотел возвратиться в свою комнату, но прямо перед собой увидел молодую женщину. Она была бы очень красивой, если бы не тень усталости от бурно прожитой жизни, легшая у рта.
Можайский отступил в сторону и поклонился.
— Мне показалось, что вы скучаете, — сказала она. — Но почему бы вам, молодым людям, не веселиться? Жить среди военных бурь, видеть вокруг только горе и смерть… Бедные люди, вы не знаете молодости.
— Я здесь случайный гость, — сказал Можайский, — у меня нет ни друзей, ни знакомых, и, признаюсь, мне не весело.
— Вы приехали издалека?
— Да, и завтра же уеду. Если бы не странная манера приглашать гостей, я не оказался бы гостем этого дома.
— Куда же вы держите путь, если это не тайна?
— Никаких тайн… Я француз, эмигрант, мой отец был губернатором в Пуату, он погиб в дни террора… — Можайский рассказывал очень естественно и непринужденно, все было взвешено и обдумано заранее. — Я жил в Англии. Месяц назад английский корабль привез меня в Ригу. Теперь я пробираюсь в глазную квартиру русской армии, — это где-то возле Бреславля.
— Бреславль в руках французов.
— Я этого не знал… Ну что ж, придется ехать туда, где я найду главную квартиру. У меня письмо к графу Рошешуар, генерал-адъютанту императора Александра.
— И вы, француз, будете сражаться против Франции?
Они отошли к нише окна. Она с любопытством смотрела на Можайского.
— Бонапарт — не Франция. Человек, который осмелился сказать: «Не я нуждаюсь во Франции, а франция нуждается во мне», — не француз. Я буду сражаться против тирании, за свободу народов.
— Все равно вы будете сражаться против ваших соотечественников, — несколько сурово сказала она.
— Мадам, — продолжая разыгрывать волнение, ответил Можайский, — я француз и, возможно, буду принужден сражаться против моих соотечественников. Но прославленный генерал Моро возвращается в Европу из Америки, чтобы сражаться против Бонапарта.
— И вы думаете, что он решится запятнать себя братоубийством?
Вероятно, разговор слишком затянулся. Собеседница Можайского принужденно улыбнулась, готовая оставить гостя, но в противоположном конце галереи вдруг появилась женщина. Она шла очень медленно, шаль падала с ее плеч и волочилась по полу. Она не видела ни Можайского, ни его собеседницы и остановилась, как бы прислушиваясь к музыке. Собеседница Можайского хотела отойти, но что-то в его лице, во взгляде удивило ее. Изумление, тайную боль, гнев — все это вместе вдруг отразило лицо этого самоуверенного и пустого, как ей казалось, молодого человека, искателя счастья.
— Что с вами? — спросила она.
Он ответил не сразу и с видимым смущением:
— Нет… Ничего…
Потом что-то пробормотал о даме, которая появилась и тотчас же скрылась.
— Это мадам Лярош, моя приятельница… Приятельница хозяйки и ее гостья. Муж ее тяжело ранен, она не хочет появляться в обществе. Вы как будто взволнованы?
— Разве мог я, француз, без волнения слышать ваши упреки… — довольно естественно сказал Можайский. — Не так легко решиться воевать против своих соотечественников. Но если моя родина устала, если народ жаждет мира, а этот человек приносит ей только горе, смерть, отчаяние…
— Я видела его не раз, — улыбнувшись сказала собеседница Можайского. — Черты лица мне показались красивыми, но не выразительными… Гладкие, черные, плотно лежащие волосы, светлосерые глаза. Взгляд быстрый и рассеянный, точно он никогда не слушает, что ему говорят, и отдается своим мыслям. Лицо матовой белизны, античный профиль… Однажды он улыбнулся, и, верите ли мне, что-то кроткое было в его улыбке. А говорят, он несет с собой только несчастье… Чтобы ни говорили, я верю, что это великий человек… Если бы не несчастный русский поход, Польша была бы могущественной и независимой! — Она произнесла эти слова как бы с вызовом и посмотрела прямо в глаза Можайскому.
— Он обещал то же Италии. Разве он не говорил, что желает видеть Италию сильной и могущественной, в ряду великих держав? А вместо этого он ограбил ее дворцы и картинные галереи. Цвет Италии — двадцать семь тысяч молодых людей после карнавальных празднеств отправились в русский поход. Вернулось несколько сот счастливцев…
Все, что говорил Можайский, было естественно в устах француза эмигранта, к тому же он говорил искренне.
— С вами трудно спорить, — сказала его собеседница.
Они покинули нишу окна и шли в сторону танцевального зала. Их оглушил гром музыки, взрывы смеха, звон шпор.
— Завтра гости разъедутся, здесь будет тихо, как в склепе, — с усмешкой произнесла спутница Можайского и, кивнув на прощание, скрылась в толпе гостей.
Только тогда Можайский заметил, что краснолицый, дородный господин в голубом фраке глядит на него в упор пристальным и как будто недружелюбным взглядом.
— Простите меня, — сказал ему Можайский, — могу я узнать, кто эта дама, удостоившая меня долгой беседы?
Дородный, краснолицый человек принужденно засмеялся:
— Бог мой! Я думал, вы знакомы с детских лет… — И вдруг, окинув Можайского холодным взглядом: — Это хозяйка дома, сударь, и гостю прежде всего следовало бы представиться ей.
![Дмитрий Виконтов - Родиться в Вифлееме [СИ]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)