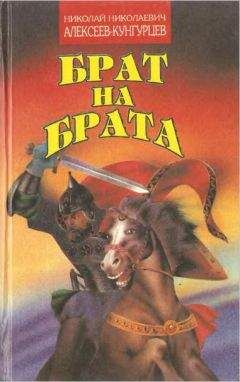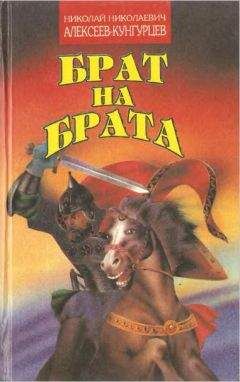Николай Алексеев-Кунгурцев - Брат на брата. Заморский выходец. Татарский отпрыск.
А уж в это время другая мысль перебивать начинает и совсем иное девице нашептывает:
«Эй, эй! Опаску возьми! Как бы хуже еще, чем теперь, чего не вышло! Вдруг отец не только что осерчает, а еще, чтоб тебя воле своей подчинить и от жениха, который не по сердцу ему приходится, отбить, замуж выдать поскорей захочет за какого-нибудь тебе немилого боярина бородатого. Что тогда? А? Хоть жизни решайся! А, ведь, кто знает, всякое случиться может… То-то! Не спеши! Дай время: может, все перемелется, мука будет! Жди пока, лучше!»
Не знает боярышня, как быть, каких мыслей слушать. То ей хочется пасть пред батюшкой на колени и все поведать, то вдруг боязно становится. Кругом ходит от всего этого голова у Марьи Васильевны, и не слышит боярышня, что ее отец третий раз окликает.
— Марья, а Марья! Да что ты оглохла, никак! Который раз тебя окликаю! — сказал отец.
— Что? — очнулась девушка и слегка вздрогнула. — Что, батюшка, изволишь?
— Говорю, который раз тебя окликаю, а ты не слышишь. Что ты сегодня словно не в себе? — продолжал старик, глядя на дочь.
Девушка вспыхнула.
— Нет… Я ничего, — смущенно пробормотала она, опуская глаза под пристальным отцовским взглядом.
— Ничего! Оно и видно! Нет, уж, дочушка, я старый воробей, и меня на мякине не проведешь! Вижу, что думы о чем-то раздумываешь, — говорил Василий Иванович, усмехаясь.
Боярышня молчала.
— И знаю я тоже, что, как станет девка задумываться, стало быть — держи ухо востро: черноусый, знать, молодец недалеко похаживает да на окна терема поглядывает! Так ли я говорю, Маша? А? Угадал, небось? — шутил отец, не зная того, что, действительно, почти угадал истину.
Пока отец говорил, в Марье Васильевне совершился переворот: решимость взяла перевес, и боярышня решила теперь же переговорить с отцом.
«Коли сам начал — так чего тянуть. Стало быть, судьба!» — думала она.
— Да, батюшка, правду ты молвил, — сказала она, вставая и приближаясь к отцу, а сама вся зарделась. — Да, приглянулся мне добрый молодец, и уж так-то приглянулся, что, кажись, жизнь свою отдать мне за него не жаль! Батюшка! — продолжала она, опускаясь на колени перед удивленным отцом. — Батюшка, дозволь мне за него замуж пойти!
— Встань, Марья! Нешто я Бог, что предо мною на коленях стоишь? — произнес отец, на лице которого уже не было прежней улыбки, однако не видно было и гнева. — Встань, садись и потолкуем, уж ежели на то пошло.
Марья Васильевна повиновалась.
— Вот что скажу я тебе, Марья, — серьезно начал старик. — У нас, на Москве, порядка такого нет, чтобы, раз, девка с молодцом до свадьбы всякие сговоры да свидания учиняли и, два, чтобы девица у родителей просилась замуж ее выдать… Жених должен сватов сам наперед заслать. Какой же это твой молодец, что порядков наших исконных, дедовских не знает, али он роду, что ль, не боярского, тогда и толковать нечего.
— Он боярин и князь, только в Москве его теперь нет, потому и сватов не засылал, — тихо ответила девушка.
— Гмм… В Москве его нет, — произнес отец, и лицо его стало суровее. — В Москве нет, — повторил старик. — Где же он?
— Он в походе с Данилой Адашевым.
— Гмм… В походе… Хорошо, нечего сказать! Молодец на краю земли с татарами бьется, а тут девка просит замуж за него выдать… Славно устроено, нечего сказать! И, надо полагать, коли так все обдумано, шашни-то ваши давно уж тянутся. Честь для девицы красной изрядная! — уже совсем сурово говорил старик, и в глазах его сверкнули огоньки, а седые брови насупились.
Марья Васильевна сидела потупя голову и молчала.
Присутствовавшая здесь же Анастасия Федоровна стала бледна как полотно, и в страхе поглядывала на мужа, чуя приближавшуюся бурю.
Однако пока старик еще, казалось, не изменил своему хладнокровию. Видя молчание дочери, он продолжал:
— Вот что, назову я тебе, коли хочешь, по имени и по отчеству того добра молодца, что люб тебе так. Его зовут-прозывают: Андреем князем Михайловичем, — медленно проговорил он, — а только тебе за ним не бывать! — твердо прибавил он.
— Почему ж, батюшка? — преодолев робость, в смертельной тоске спросила девушка.
— Почему? Многого ты, девка, хочешь, чтоб отец тебе отчет отдавал! Но и то, будь, по-твоему, скажу! Потому, что введенному боярину не пристало дочь свою выдавать за отпрыска татарского! Поняла?
— Что ж, что он не из чисто русских, ведь теперь он верой и правдой царю служит, да и отец его, и дед служили так же, — говорила девушка, забывшая страх пред отцом: горе ее было сильнее страха.
— Все же он татарского рода, и тебе за ним не бывать!
— Батюшка! Он же мне жизнь спас, — продолжала Марья Васильевна.
— Это когда коня-то остановил? Ну, пожалуй, спас. Так что же? Не он, так другой сделал бы это самое… А нашлись бы сразу двое похрабрее да остановили бы в ту пору коня, так за них обоих сразу тебя надо было бы выдать!.. Так выходит! Вот и видно, что волос долог, да ум короток… Ну, да довольно! И то уж дозволил тебе пустого болтать больше, чем следовало. Отправляйся в девичью да за пяльцы садись, это лучше будет!
— Батюшка! — опустилась к ногам отца девушка, вся трепещущая в порыве беспредельного горя. — Батюшка! Родной! Смилуйся! Не губи меня! Без него мне жизнь не красна будет! Он солнышко мое ясное! Смилуйся, родимый! — и она, в слезах, обнимала колени отца.
— Довольно! — загремел отец, вскочив с места, в припадке гнева. — Довольно! Прочь с глаз моих, бесстыдница! Будет, дозволил, поломалась девка, теперь нишкни, а не то выбью дурь у тебя из головы!
— Полно, Василий Иванович, успокойся! — вставила свое слово Анастасия Федоровна.
— А! и ты туда же! Успокойся! Успокоите вы! Смотрела за дочкой хорошо, нечего сказать! Матерью еще прозываешься!.. Дочь на глазах у ней шашни заводит, а она, словно безглазая! У, у! Погоди ж! Мы еще с тобой покалякаем! Выучу я тебя, как за дочкой смотреть! А ты вон с глаз моих! — снова обратился он к Марье Васильевне. — Во-он! Чтоб духу твоего здесь не было, негодница! Ишь, дурь напустила. «Солнышко, говорит, он мое ясное!» Я те задам солнышко выбью дурь-то! И раз навсегда запомни, чтоб я больше об этом татарском выродке и слова не слыхивал! А теперь прочь! Да прочь же, тебе говорят, бесстыдница, про-очь! — и он, схватив за плечи полубесчувственную девушку, с силою вытолкнул ее за дверь комнаты.
Долго еще раздавался по всему дому грозный голос боярина Темкина.
Мало-помалу он затих, и слышались только мерные, тяжелые шаги его.
В доме царила мертвая тишина; все словно вымерло от одного отзвука голоса Василия Ивановича.
А в спальне лежала на постели Марья Васильевна и смотрела перед собой неподвижным, словно мертвым, взглядом. Слез не было, не было и тоски; душу Марьи Васильевны словно одела непроглядная ночь; потух тот светоч, который светил ей. Он был тусклым и слабым, но всё-таки боролся с мраком. Теперь его не стало, и непроглядная тьма окружила душу боярышни. Светоч этот — была надежда. Теперь она исчезла, и уже не тоска о далеком друге, не сомнения и колебания кручинили боярышню, а страшною свинцового тяжестью сдавило ей сердце безысходное горе. И девушка не боролась с ним, а, подавленная его гнетом, лежала без мысли, без движенья, без слез, лишь чутко прислушиваясь к тому, как билось и ныло ее исстрадавшееся сердце.
IV. ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР
Все домашние боярина Темкина ожидали, что теперь долго будет гневен он, не скоро забудет то, что произошло между ним и дочерью. И, действительно, долго ходил боярин, словно туча грозовая. Уж весна наступила вполне, солнце так ярко-ярко сияло и птицы, прилетевшие из краев заморских, песни веселые распевали; кажись бы, должна была пройти злоба боярская при такой благодати, а Василий Иванович был по-прежнему угрюм. Знать, лучи солнечные, что льды и снега заставили в реки сбежать ручьями журчащими, недостаточно теплы были, чтобы так же смягчить и твердую душу боярскую! Но вдруг с него злобу, как рукой, сняло. Боярин, грозно поглядывавший на всех, из-под насупленных бровей, однажды вернулся из дворца таким веселым, каким его уже давно не видали!
— Настасья, а Настасья! Подь-ка ко мне! Надо кой, о чем покалякать! — крикнул он жену, едва успев выйти после обеда из столовой избы[60] в свою одрину[61].
Удивленная этим приглашением Анастасия Федоровна поспешила к нему.
— Садись, — указал он ей на скамью, — да потолкуем.
— Чай, ты не забыла, — начал боярин, когда Анастасия Федоровна приготовилась слушать, — как дщерь-то наша вздурила?
— Конечно, нет! Мне ль запамятовать это! — воскликнула боярыня.
— Ну, так вот, порешил я дурость ейную выгнать у нее из головы, а чтоб сразу конец положить, задумал замуж ее выдать. Признаться, я уже кое с кем из своих проговорил… Ан, тут ей, девице-то вздурившей, выпало такое счастье, что я и во сне представить не мог! — продолжал, радостно улыбаясь, боярин.