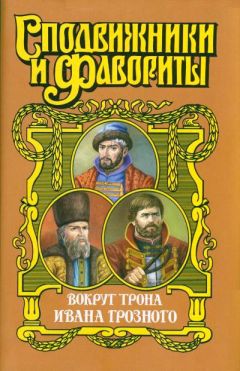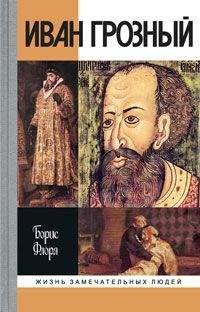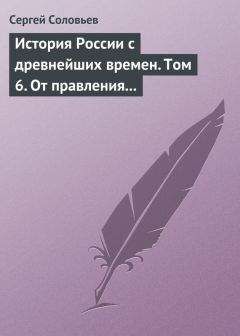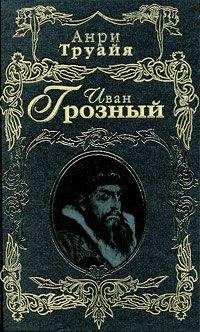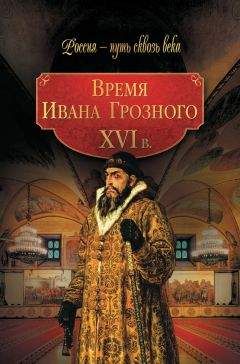Валерий Полуйко - Лета 7071
Сквозь мелкие паюсы слюдяных окончин в палату затекал желтоватый свет зачинающегося дня, и палата как будто расширялась, становилась выше, ее словно распирало в разные стороны от этого густого, перемешивающегося с восковым дымом света. Но чем больше накапливалось света под высокими сводами палаты, тем неуютней становилось в ней и напряженней, как в соборе перед началом обедни. И притихала палата, притаивалась, охватываемая этой напряженностью; в тягостной ее неуютности невольно и вольно зарождалась томительное, чуть-чуть жутковатое ожидание.
Ждала палата… Каждый знал, что царь никогда не спит более трех-четырех часов.
Слуги-свечники, ловко орудуя длинными деревянными щипцами для перемены свеч в паникадилах, торопились поскорей закончить свое дело. Прибиральщики уже давно пособирали со столов и из-под столов объедки, повыскребли, посмыли, подтерли всю грязь, что нанесли гости с улицы, переменили в проходах меж столами затоптанные ковры — теперь разносили по столам рукомои с теплой водой и длинные утиральники из беленого полотна.
Перед каждой сменой яств гости должны были мыть руки, и хоть никто этого не делал, кроме самого, царя да тех немногих иноземцев, которые зазывались на царские пиры, рукомои тем не менее с недавних пор стали обязательными на всех пирах. Об этом строго-настрого было приказано самим царем, и заговорили самые досужие, что это царский лекарь Елисей Бомелий наущает царя следовать иноземным обычаям.
По иноземным обычаям стали теперь раскладывать на столах перед каждым гостем ножи и ложки… А по какой надобности-то, спрашивается, ежели только не смеха ради и не в противу обычаю?! Ведь искони все ходят на гостивства со своими ножами и ложками. Будь то первый боярин или самый захудалый писарь, все равно у каждого из них всегда при себе и нож и ложка: у боярина они привешены к поясу в чехольчике из золоченой кожи, а у писаря — за голенищем сапога.
Ждет палата… Прошло уж часа три, как царь оставил пир и удалился в свои покои. Вот-вот ему и воротиться!
Сменились у главных дверей рынды — и стало еще напряженней, как будто в облике рынд сошел в палату коварный дух царя.
Вкрай истомившиеся гости, еле живые от непомерного жранья и возлияний, изо всех сил старались ободриться, принять приличествующий вид. Не всем, однако, это удавалось… Некоторые лежали пластом под столами, под лавками, их не привели в чувство ни безжалостные пинки Хилкова, ни грозные покрики Салтыкова. Таким предстояло сполна изведать всю бесцеремонность пиршественных обычаев — слуги уж принялись вытаскивать их вон из палаты.
Забежавший в палату Захарьин погрозился на слуг, прикрикнул, чтоб не мешкали да поторопней выкидали на двор испившихся! Сам пошел вдоль столов — указывать, кого тащить вон, кого, похлестав по щекам, за стол усадить. У дьяческого стола, под стеной, увидел запрокинувшегося в беспамятстве Щелкалова, посмеялся: свалила-таки дьяка заздравная чаша! Повелел выкинуть его вон. Потащили переусердствовавшего дьячину за руки, за ноги через всю палату, как самого последнего холопа… Очнись дьяк в этот миг — умер бы от позора!
Обойдя палату, распорядившись, Захарьин снова намерился было бежать по своим бесчисленным дворцовым делам… Сколько их у него, господи! Не присел, головы ни на минуту не преклонил… Царя проводил почивать, а сам помчался на Кормовой двор — к пекарям, к рыбникам, к мясникам… Во всем нужен его глаз, его слово! Чего-то недоглядишь, чего-то не проверишь сам, — так и быть какой-нибудь неурядице, какой-нибудь прескверной оказии. И за все-то ответ держать ему, ему одному — такова уж судьба дворецкого! Царь, конечно, благоволит к нему, но сгоряча, с распалу — все может! Сталось однажды: попались царю фазаньи потроха с душком… Ему на голову и вывернул царь полупудовую мису потрохов!
Нынче тоже — все службы обегал: и на Кормовом дворе, и на Сытном, на Поледенном 220, горло сорвал, руки обил — дал бы бог, помогло!
В палате тоже доглядеть за порядком нужно… Тут все на царских глазах, а глаза у него — не доведи господи!
Еще бы к кислошникам сбегать — совсем забыл о кислошниках Захарьин… А ведь как понесут к царскому столу жареных коростелей — к ним непременно и квашеные капустные головы подавать надобно: любит царь коростелей с квашеной капустой…
Да и к медушникам следовало бы заглянуть, наломать им хвоста: жидковато разваривают меды, а ведь медами пир красен. Только… глянул Захарьин на рынд, как выспренни они и торжественны в своей целомудренной страстности ожидания, и отказался от своих намерений, остался в палате. Прозевать появление царя и не встретить его — такого вовсе не мог Захарьин. Озабоченно потоптался он у дверей, недовольно позыркал на рынд, словно они преградили ему путь из палаты, и устало поплелся к помосту, на котором стоял царский трон. Сев на помост, Захарьин озабоченно насупился, потупил взор, словно устыдился своей усталости. Царские стольники, уже переодевшись в новые кафтаны — алые, венецейского золототканого алтабаса 221, сошлись к нему, стали полукругом, ожидая его приказаний.
Захарьин поднял на них глаза, сощурился от блеска их кафтанов, беззлобно буркнул:
— Эк, вырядились!.. Хоть на блюда вас клади. Однако… — он озабоченно привздохнул, — государю уж пора быть! В-первах, что у нас на выносе — коростели иль щучьи головы с чесноком? — спросил он с притворной рассеянностью, проверяя стольников, хоть и знал, что у каждого из них на руках роспись блюд и порядок подавания их к царскому столу. Да как ему было одолеть свою дотошность?!
Стольники, давно уже изучившие нрав боярина-дворецкого, невозмутимо отмолчались, будто и не услышали его вопроса. Захарьин глянул на них с укорительной строгостью и даже присопнул — для пущей грозы, но и это не смутило их.
— Глядите же, — махнул на них рукой Захарьин. — Я-то с женишкой да чадами попрощался!
— Мы також, боярин, — ответили стольники. — Вели-ка курить 222 в палате да вино горькое к столам нести. Трезвы гости!.. А государю срам от их трезвости!
— Ух! — вскинул руки Захарьин. — Умны вы, погляжу я, — что лошадь на вожжах! Заторопка со спотычкой живет!
Захарьин прошелся вдоль помоста — в самом его конце, на ступеньках, ссунувшись с них вниз головой, спал нищий старец, которого Иван оставил на пиру. До смерти был пьян старец и спал мертвецки, и, должно быть, и во сне ему не снилось того, что сталось с ним наяву. Слуги не решались вынести его из палаты — подступиться даже боялись…
Захарьин постоял над старцем в досадном раздумье, пошевелил своим сапогом его болтающуюся, будто отделенную от туловища голову… Эка докука! Ну что с ним поделать? На части рви — не очнется! А царь заявится — как станет на такое зреть?! Для того нешто кликал сюда он «сию истинную Русь», чтобы так вот, в позоре, валялась она на глазах у этой — другой Руси, которую он нынче так изощренно и настойчиво низводит долу.
Ох, быть оказии, быть!..
Захарьин отходит от старца, до боли вскребается в свой сивый затылок… Неужто не выдумать ему ничего, неужто не извернуться, не избежать оказии и царского гнева, да и какого гнева!
Эх, была не была! Подозвал Захарьин слуг, велел выкинуть испившегося старца вон да привести со двора другого — трезвого…
Исполнили слуги наказ, привели с улицы другого нищего. Обласкал его Захарьин, усадил за стол, вином попотчевал — в меру, для храбрости только, пирогов с куриными потрохами подложил…
— И гляди! — для пущей острастки тыцнул его кулачиной под бок. — Не юродствуй. Урядно чтоб было все да пристойно. Государь обратится — отвечай по уму, по душе, не льстись, не любомудрствуй!
— Коль не сробею, батюшка-боярин… Сейный час уж напол жив сижу.
— Сробеешь — государя огорчишь, а смышление выкажешь — порадуешь, ибо государевым недоброхотам да злопыхам нос утрешь. Государь любится к вам, простым и убогим, а недоброхоты его на том судят и смеют.
Захарьин сел на свое место за царским столом и, как-то враз отрешившись от всех хозяйственных дел и забот, стал думать о царе, словно само это место не позволяло думать больше ни о ком и ни о чем другом.
Палата то наполнялась шумом, то вдруг притихала — до такой степени, что казалось, будто все-все-все сидящие в ней разом затаивали дыхание в предчувствии того тревожного, но и желанного мига, который должен был избавить их от изнурительного ожидания, и когда шум, медленно, как тяжелый маятник, откачнувшись куда-то в сторону, уступал место тишине, палата, радужно расцвеченная мозаикой слюдяных окончин, становилась похожей на громадную и какую-то необыкновенную, волшебную усыпальницу, где все осталось нетленным — и люди, и вещи… Кроваво, как догорающие угли жертвенного огня, тлели блики на золотых ковшах и братинах, тускло блестело серебро, и от этого еще таинственней, еще священней казались тишина и оцепенелость, в которую погружалась палата, как будто в хладности серебра и в ярой огненности золота, в их незримой совокупности и была сокрыта тайна волшебства.