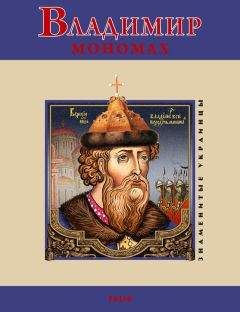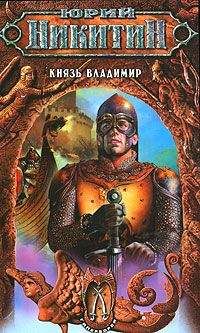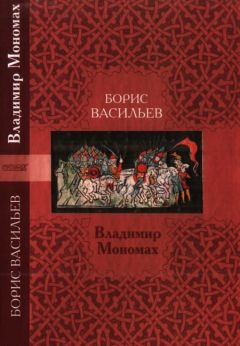Павел Загребельный - Смерть в Киеве
- Не знаешь Киева, - засмеялся Петрило. - В Киеве так: пиво кончается, начинаются жены.
- Я не жена.
- Кто же?
- Боярыня!
- Еще свежая.
- Все едино боярыня.
- Киевская ведь. А в Киеве Петрило - восьминник. И свечки зажигать... - он снова потянулся к Оляндре.
Но женщина снова увильнула, осветила темный закуток.
- Без тебя уже есть!
Петрило протер глаза. В горнице стоял какой-то человек.
- Кто? - крикнул восьминник, хватаясь за меч.
- Я, - спокойно ответили ему.
- Кто такой? Потому что не оставлю ни глаза во лбу, ни зуба во рту!
- Ужели не узнал? Иваница. Пили у князя.
- Ловок, опередил. Как же своего лекаря оставил?
- Вот уж! Он сам по себе, а я сам по себе. Каждый спит для себя. И сны свои у каждого.
- В Царьград бы лучше готовился, завтра отплываете.
- Кто плывет, а кто и нет.
- Ужель не поплывешь со своим лекарем?
- Не твое дело.
- Сюда зачем забрел?
- Вот уж! А ты зачем?
- Я восьминник.
- Обоих выгоню, - сказала спокойно Оляндра, - все вы мне осточертели. Теперь я боярыня, посплю хоть раз одна, без никого.
- Хоть и боярыня, а поедешь со мной. - Петрило надвинулся на женщину темно и неотступно.
- Куда же?
- Скажу.
- А Иваница?
- Пускай идет к лекарю.
- Сам к нему иди, ежели он тебе люб, - равнодушно промолвил Иваница, так, что Петрило с любопытством повернул к нему голову.
- Ого! - удивился он. - Возле Оляндры хоть кто...
- Боярыни! - гневливо напоминала женщина.
- Возле боярыни Оляндры хоть кто голову... Так, может, с нами? Забудешь своего лекаря? Не поплывешь в Царьград?
- Вот уж! Зачем мне плыть туда!
- С нами, - решил за Иваницу Петрило. - Это лучше. Собирайся.
- А куда? - вяло спросил Иваница, для которого, собственно, все утратило значение, кроме того, чтобы удержаться хотя бы на короткое время возле этой, такой доступной и одновременно норовистой, как оказалось, жены.
- Еще я не согласная! - добавила Оляндра.
- Согласишься, когда скажу, что просит на ужин сам воевода Войтишич. Счастливейший человек в Киеве, - торжественно промолвил Петрило.
- Сам же говорил: пиво закончилось уже...
- Пиво кончается, мед начинается, - так в Киеве заведено. А ты теперь боярыня киевская, знать о том должна...
Так они пошли к Войтишичу, где, по обыкновению, был игумен Анания, был старый Борислав, отец высокоученого Петра, боярина Изяславова, приехал и воевода Мостовик, который, будучи прикованным к днепровскому мосту долгом и образом жизни, не смог бежать с Изяславом; Долгорукому же ни подчиняться, ни служить не хотел, было еще несколько тех, кто отважился остаться в Киеве, надеясь на недолгое пребывание там Юрия. Трудно перечесть всех, кто там был, да и мало пользы слушать об этом.
Дулеб вряд ли и ждал в этот вечер Иваницу, хотя, если подумать, парень давно уже не блуждал по ночам; кажется, после возвращения их из Суздаля впервые вот так вырвался, не сказав, вернется ли домой хотя бы под утро. Утром же они должны быть готовы для дальней дороги, готовы, еще не перемолвившись и словом? Но не это более всего беспокоило Дулеба. Ойка вот отчего ныло у него сердце. Никто не мог прийти ему на помощь, никому не мог сказать, не у кого было просить совета. Только она одна. Если бы у него было время, он, как мальчишка, пробрался бы в курятники Войтишича и подстерег там Ойку, но ведь ночью она туда не придет. А утром он должен быть у князя. До сих пор удерживался от необдуманного поступка - не пытался найти Ойку, в надежде на то, что она придет сама, как это бывало раньше. Теперь жалел, а поделать ничего не мог.
По привычке Дулеб разложил письменные принадлежности, склонился над своими пергаменами, долго думал, написал: "История не в состоянии перечесть страдания отдельных людей, ибо перед ней - несчастья целых народов".
Отложил писало, встал с намерением решительным и отчаянным: пойти к Войтишичу. Что скажет старому воеводе - еще не знал, но верил: сумеет как-то повернуть так, чтобы повидаться с Ойкой. Мог бы и отложить на день или два отплытие в Царьград. Жениться на Ойке. Попроситься под руку самого князя Юрия. Посаженый отец. Венчание в Софии. Затем взять Ойку с собой. Слепой Емец? Может, взять и его также. Хоть слепым побудет у тех, кто выжег ему глаза, побудет у них уже не узником, а высоким послом.
Неосуществимость своих мечтаний понял, как только переступил порог гридницы Войтишича, куда его провели служки, которые, судя по всему, причислили Дулеба к сторонникам воеводы, потому что не раз и не два видали его здесь на пиршествах, а у старого Войтишича к пиршеству допускались лишь люди нужные.
Дулеб, что с ним не часто случалось, растерялся вельми. Гридница сверкала от свечей, драгоценной посуды, от лоснящихся - то ли от пота, то ли от жира - лиц за столом.
- После пиршества у князя снова... - начал было Дулеб, не зная, что сказать, и в самом деле удивляясь обжорству этих людей, среди которых только теперь заметил и суздальскую Оляндру и... своего Иваницу.
- Живет тот, кого слушают, мой дорогой! - хрипло воскликнул Войтишич. - Чтобы человека слушали, в нем должен быть жир, будь оно проклято! А чтобы был жир, надобно есть! Садись с нами, дорогой!
- Благодарствую, я пришел за Иваницей, - неожиданно для самого себя промолвил Дулеб, решительно отклоняя приглашение Войтишича, главное же: этими словами он сразу похоронил свои намерения каким-то образом завести речь про Ойку. Да разве мог бы он об этом говорить при людях? Он надеялся застать Войтишича одного, быть может умиротворенного и растроганного великодушием Долгорукого. Оказалось же, что все, вишь, не так. Думалось, что Войтишич за свою длинную жизнь уже свершил все написанное ему на роду: геройства, измены, коварство и подлости. И он в самом деле покончил со всем добрым и благородным, а в подлости не знал удержу до сих пор еще. Потому что подлость - неисчерпаема. Она не имеет конца. Ни вообще, ни в отдельном человеке, в особенности же если человек этот - Войтишич. Пришел за Иваницей, - повторил Дулеб и увидел, как Войтишич грузно поднимается со своего стула, чтобы идти приглашать гостя, брать его в объятия, щекотать ухо бородой и шелестом своего привычного: "Будь оно все проклято!"
- Разве некого было послать? - спросил Войтишич, раскрыливая руки для объятий и переходя на свое сладкогласие: - Дорогой мой, не отпустим тебя, покуда не...
- Не привыкли мы с Иваницей кого-то куда-то посылать, - упрямо продолжал свое Дулеб. - Завтра в дальнюю дорогу нам, Иваница. Пришел напомнить тебе.
- Вот уж! - наконец отозвался Иваница. - Тебе дорога, а мне нет! Остаюсь здесь.
- Как хочешь, - Дулеб воспользовался тем, что Войтишич замер на полпути, прислушиваясь к его переговорам с Иваницей. - Заставлять тебя не могу, да и зачем? Такого между нами не было. Сказал тебе, а ты знай свое.
- Мне и тут хорошо, - сказал Иваница каким-то словно бы чужим голосом.
- Тогда расстанемся.
- Приедешь - тут буду. Хотя бы и возле Оляндры.
- Осточертели вы все, - лениво промолвила Оляндра, лукаво поглядывая на Дулеба.
- Тогда пойду, - сказал лекарь, - зря только помешал вам. Моя вина.
- Да какая же вина, лекарь дорогой! - только теперь двинулся на него со своими объятиями Войтишич. - Садись с нами, да выпьем малость, да...
- Как же я мог бы лечить людей, сам обжираясь и напиваясь средь ночи и тем укорачивая собственную жизнь, - улыбнулся Дулеб и решительно повернулся к двери.
Войтишич поймал своими объятиями пустоту, но крикнул вдогонку лекарю с нарочитым весельем:
- Да будь она проклята, вся жизнь, ежели человеку и выпить не дают!
Дома Дулеб увидел свой пергамен, присел, быстро записал: "Никогда не следует недооценивать способность Войтишича расправляться с другими и выходить невредимым самому. Он твердо придерживается истины преступной, но, к сожалению, очень живучей: в безопасности лишь тот, у кого есть сила создать опасность для других. Князь Юрий должен был бы помнить".
Силька, поедавший княжеские харчи лишь за то, что должен был прослеживать каждое движение и каждое слово князя Андрея и иногда и самого Долгорукого, не занес в тот вечер в свои пергамены ни единого слова, и не потому, что растрогался от встречи с родным городом, или напился на пиршестве у великого князя, или (этого еще не хватало!) подрался с каким-нибудь озорником. Объяснялось все проще, Сильку нашли в княжеском дворце в отдаленнейшем, но и уютнейшим закоулке, где княжеский летописец расположился, смакуя заранее, как обрисует он весь сегодняшний день от рассвета до поздней ночи, не пропуская ничего, применяя слова отборные, выразительные и почтительно-приподнятые, опишет надлежащим образом все приготовления к вступлению великого князя в святейший город, покажет силу суздальскую, благородство князя Андрея, безудержное веселье киевлян, звон киевских колоколов, не пропустит ни великое, ни малое, заставит грядущих чтецов подивиться меткости своего глаза, умелости и твердости руки, неизмеримой широте разума.