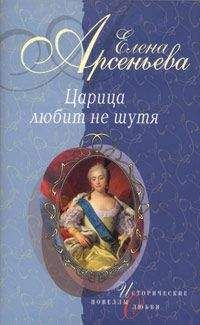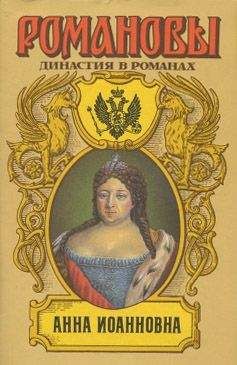Арнольд Цвейг - Воспитание под Верденом
И вдруг Бертину становится ясно, что и он тоже убит, впрочем, тут- нет ничего удивительного. Внезапно, возвышаясь над холмами исполинским видением, словно освещенный красноватым отблеском столб пара, вырастает фигура унтер-офицера Кройзинга; он машет Бертину с фермы Шамбрет, где уже давно утвердились французы.
Чорт возьми! думает Бертин, теснее прижимаясь к ящикам с разрывными снарядами. Почему у него эта странная фигура, словно заостренное кверху пламя свечи?
Да, правильно: он вспомнил о подстреленных наблюдателях с аэростатов, два вот таких дымовых столба украсили тогда небо.
Вот взвился призрачный самолет, у пилота спина исчерчена темными точками — следами прострелов. Бедный
мальчик с красивым загорелым лицом! Справа можно теперь разглядеть остатки стволов и группы разрушенных вершин: это лес Тиль.
Неожиданно среди деревьев рвутся снаряды. Темно-красные огни, желтые вспышки. Бертин страшно пугается Выстрелы он проспал. Но еще до того как он успевает спуститься вниз с своего ящичного трона, сапер с задней платформы успокаивает его: стреляют далеко, на расстоянии добрых ста пятидесяти метров вправо, ближе француз не подберется, как бы ни старался, чорт бы его побрал! Бертин все еще подозрительно прислушивается; он окончательно проснулся, насторожился, но только одинокие пулеметные выстрелы и равномерное «пых, пых, пых» веселых паровозов рассекают тишину. Он вновь откидывается назад, оглядывает лежащую перед ним черной громадой окрестность. Там дорога идет к Азанн и к Гремилли, там сидит па корточках перед огнем, перед красным пламенем гранаты, и раздувает его, грея руки, молодой батрак Пршигулла. Но никакого огня нет, это только мерещится Бертину. Рот у Пршигуллы из-за полипов в носоглотке по обыкновению открыт, и он испытующе смотрит своими рыбьими глазами на умного Бертина, который стал намного глупее его, после того как ему, Пршигулле, разворотило живот и землекоп Шамес, как ребенка, отнес его, умирающего, в санитарный окоп. «Да, — сказал лейтенант Шанц, — нам, с нашей прусской выучкой, нужны дьявольские испытания, прежде чем мы образумимся». Бертин вздрагивает, плотнее застегивает шинель, поднимает воротник.
Поезд на мгновение останавливается. Отсюда рельсы поворачивают налево, к Романи, вдоль линии, где группа Швердтлейна руками пленных русских строила дорогу в дни великих холодов.
Сапер со своими платформами вынужден один катиться дальше, в мало приятные места. Передняя часть состава — четыре вагона Бертина — загибает за угол, во тьму. Бертин провожает взглядом три платформы сапера. Им навстречу ковыляет высокая худая фигура в бриджах и обмотках; открывая волчьи зубы, она, прощаясь, машет длинной рукой. Наконец-то, думает Бертин, он в самом деле выбрал Дуомон, чтобы поселиться в нем как привидение. «В моем новом состоянии мне вовсе не так плохо, как вы думаете, — как бы издалека бубнит глубокий голос Эбергарда Кройзинга, — я предпочел отказаться от окольного пути — по линии начальства — и сразу приземлился, и стал грудой костей. Вы не забудете меня, маленький проказник?» Об этом уже позаботились, думает Бертин.
Поезд вдруг тормозит ход. Бертин просыпается. Из врезанного в гору окопа выходит железнодорожник и берет у Бертина бумаги. Этот окоп — Романь-Вест. Бертин может отдохнуть в тепле и в пять часов вернуться порожняком обратно к своему парку. Внизу горит яркая ацетиленовая лампа, топится печурка, пахнет кофе. Бертин получает полную кружку на свою долю. С каких пор возникла нужда в этой новой дороге? С тех пор как француз постепенно разрушил обстрелами старый вокзал Романь, При одном из таких обстрелов погиб и задорный берлинец, способный унтер-офицер из железнодорожной комендатуры. Знал ли его Бертин?
— Конечно, — отвечает Бертин. — Каждый, кому приходилось бывать на вокзале, знал его, ведь он был там душой всего дела, правой рукой начальника вокзала. Так, значит, и он погиб? Бедный Пеликан!
Этой ночью, как видно, узнаешь лишь о людях, ушедших из жизни; пожалуй, лучше не спрашивать больше ни о ком, например о Фридрихе Штрумпфе? Дьявольски жутко уезжать отсюда живым. Спокойной ночи!
В восемь утра, побрившись и плотно позавтракав у Штрауса, ландштурмист Бертин получает, наконец, необходимые для отъезда документы. Проездной билет, продовольственную карточку, справку о дезинсекции, удостоверение личности, в котором написано: ему, Бертину, надлежит явиться для вступления в должность в военный суд дивизии фон Лихова, в Мервинске. Где находится Мервинск — где-то на Восточном фронте, — и как туда добраться, об этом он лучше всего узнает на Силезском вокзале в Берлине. Поездка предстоит долгая, и ему разрешается пользоваться скорыми поездами.
Причитающееся ему жалованье и пайковые он получает новенькими пяти- и десятимарковыми бумажками. От своей доли сбереженных на довольствии денег он отказывается в пользу рабочего газового завода Галецинского.
Писарь Кверфурт с козлиной бородкой делает соответствующую пометку. Затем они пожимают друг другу руки.
— Желаю удачи, — говорит писарь.
— Вам всем счастливо оставаться, — отвечает Бертин.
С глубоким удивлением он чувствует, что к горлу подкатывает клубок. Глаза застилает туман. Главное — чтобы этого никто не видел.
Этого никто не видел. Полчаса спустя, когда шаткий маасский поезд тронулся, чтобы дотащить его до Монмеди, загорелый нестроевой солдат высунулся из окна, за которым остались, все более и более отдаляясь, знакомые места. Здесь жизнь перековывала его и в солнце и в дождь, летом и зимой, днем и ночью. Что сказал малыш Зюсман перед смертью? «Передайте моим родителям, что игра стоила свеч. Лейтенанту Кройзингу; игра не стоила свеч». Истина кроется между двумя этими полюсами. Однако, как установил какой-то мудрец, не совсем посредине…
Глава седьмая ОТЗВУКИ
Уже половина июня. Пригород Эбензее у Нюрнберга залит светом летнего солнца. В этом: месте он примыкает к старым лиственным и хвойным лесам, окаймляющим подножие франкской Юры. Улица Шильфштрассе в Эбензее обрамлена небольшими домами. Из ближайшей гостиницы доносится танцевальная музыка: модный американский мотив, фокстрот или шимми.
Мужчина и женщина, как влюбленная парочка, бредут вдоль белой ограды, отделяющей садики от пешеходной дороги.
Молодой человек одет в голубовато-серый, слегка поношенный костюм довоенного покроя. Из отложного, а ля Шиллер, воротника белой сорочки выпирает шея с кадыком; вся его фигура — худые скулы, слегка оттопыренные уши, не очень коротко остриженные волосы — производит в штатской одежде гораздо более приятное впечатление, чем в военной форме. Небольшие глаза глядят, что-то высматривая, из-за толстых стекол новых, более сильных, очков.
— Номер двадцать1 шесть, — читает он на противоположной ограде. — Мы ищем номер двадцать восемь, стало быть следующий дом. Лена, мне страшно, — я вовсе не уверен, что войду туда.
Леонора, в летнем платье бледно-желтого цвета, едва прикрывающем колени, кладет, словно защищая, свою тонкую руку на его пальцы.
— Вернер, тебя ведь никто не принуждает… Ты пришел сюда добровольно. Смотри, там, напротив, приспущен флаг.
Вернер Бертин заглядывает в сад дома двадцать восемь. В глаза бросается окрашенный в белое столб, с середины которого неподвижно свисает черно-бело-красный флаг. Тот самый флаг, который на протяжении всех четырех лет войны можно было видеть развевающимся во многих странах — в Юскюбе и в Ковно, в Лилле и в Монмеди, и на всех немецких дорогах. Этому флагу суждено скоро исчезнуть. Здесь он приспущен в знак траура, и ветер едва колеблет его складки между вишневыми деревьями и двумя елями, стоящими справа и слева уложенной дерном площадки.
— Наконец нашелся хоть кто-то, отметивший этот день, — говорит Бертин. Теперь он твердо уверен, что это и есть тот дом.
— Ты видишь, что написано на дощечке?
Защитив глаза от солнца ладонью, — широкополая шляпа висит у нее на руке, — Леоноре удается разглядеть с противоположной стороны улицы то, что написано на медной дощечке: «Кройзинг».
На дорожке, ведущей от дома, появляется высокий худой старик с заложенными за спину руками. Он производит впечатление человека, который, погруженный в свои мысли, часто проделывает этот путь. На мгновение он останавливается у забора; на нем черный сюртук, белый воротничок с туго накрахмаленными углами, черный галстук. Затем он поворачивает и, двигаясь той же ровной походкой, исчезает за домом.
Вернер Бертин сжимает руку Леоноры.
— Это он, Эбергард Кройзинг похож на него как две капли воды. Хоть бы прекратилась эта идиотская музыка!
Сегодня — воскресенье двадцать девятого июня 1919 года. Во всех садах-ресторанах, по всей стране, как и каждое воскресенье в послеобеденное время, устраиваются танцы. По календарю это воскресенье — день апостолов Петра и Павла. Сегодня Германия вместе со всем миром празднует состоявшееся накануне подписание мирного договора в Версале. Война закончилась, скоро кончится и блокада. Пройдет еще немного времени — и у Бертина, у Леоноры, у старика Кройзинга округлятся впалые щеки. Это день, когда страшная рана, кровоточившая последние четыре года, объявлена зажившей. Однако Бертину хотелось бы, чтобы Германия серьезнее встретила эту дату: сосредоточеннее, более собранной и более потрясенной. Среди бюргерства еще как-то чувствуется значение этого дня — вот приспущен флаг между темных елей, — но парод танцует как ни в чем не бывало. Никто как будто не замечает, что открылась попа я страница в книге судеб.