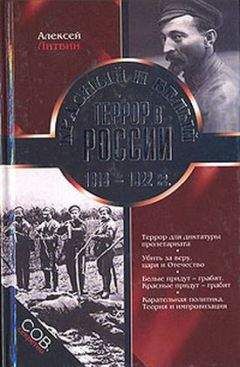Торнтон Уайлдер - Мост короля Людовика Святого. Мартовские иды. День восьмой
— Мистер Толланд, зачем вы сегодня ходили на кухню?
— Там вспыхнул пожар, сударыня.
— И что же вы сделали?
— Погасил его. Может быть, вы позволите мне заняться вашей кухней и прачечной, пока я здесь, и привести там все в порядок? От частых землетрясений многое в доме порасшаталось, котлы, трубы, дымоходы неисправны. Кое-что даже представляет опасность.
— В Чили не принято, чтобы джентльмены занимались грязной работой, мистер Толланд. У меня есть свои слесари и водопроводчики.
Он взглянул ей прямо в глаза.
— Да, я видел их работу… Миссис Уикершем, я труженик по натуре. Мне очень скучно без всякого дела. Я хотел бы, чтоб вы показали мне ваши больницы и приюты — с той стороны, которую посетители обычно не видят. Пока еще не повзрывались котлы и не полопались трубы.
— Ха!
Он достал из чемодана рабочую одежду. Нашел себе инструмент и подручных. Его представили сестрам, учительницам, врачам и кухаркам. К концу недели везде уже шла работа — пилили, паяли, копали, приколачивали. К концу второй недели добрались до перегородок; разрушали одни, устанавливали другие. Сестер он привел в восторг, понаделав им множество всяких полок и полочек. Он чистил дымоходы, колодцы, отхожие места.
Работая, он пел «Нита, Жуанита», «Китайскую прачечную».
Он говорил себе: «Это за Софи».
Казалось, он молодел с каждым днем. Когда он приходил утром, его встречали улыбающиеся, розовые от смущения лица. «Дон Хаиме, el canadiense». Больные к нему привыкли. Воспитанники приютов к нему привыкли. Слепым девочкам в школе подавали знак, когда он входил, и они вставали и пели для него хором. Всем казалось непостижимым, что столь, судя по всему, важная особа отлично говорит на их языке, а главное, не гнушается физическим трудом. В больничных палатах и соляриях у него всегда находилось доброе слово для каждого старика, каждого молодого калеки. Он обладал редкостной памятью на имена. В приюте поутру, еще не успев перепачкаться на работе, он подхватывал на руки какого-нибудь малыша и держал его так сноровисто, словно был к этому издавна привычен. Он происходил из породы людей, что как будто излучают спокойствие и надежду. Мать-начальницу особенно изумляло его отношение к женщинам и совсем юным девушкам — дух рыцарственности, в которой было что-то от полузабытых преданий старины.
Миссис Уикершем обороняла свое сердце, как могла. Старым людям трудно поверить, что молодые и в самом деле могут нуждаться в их дружбе. От молодых можно ждать в лучшем случае вежливости, но их все равно влечет к обществу сверстников. К тому же они — старые — страшатся того, что новая дружба предъявит новые требования; слишком часто они видели в жизни, как распадаются дружеские узы, и сами уже начали забывать некогда дорогие сердцу привязанности. Быть может, дружба — всего лишь слово, во многом стершееся и многое стирающее. Но что же тогда так ярко светилось в обращенном к миссис Уикершем взгляде Эшли? Что, если не дружба? Надо сказать, что Эшли появился в «Фонде» в критическую для миссис Уикершем пору. Тот руль, с помощью которого она всегда направляла ход своей жизни, заколебался в ее руках. Она стала терять вкус к своим добрым делам. Все эти девушки, которых она призревала, воспитывала и выдавала замуж, все слепые, которые в ее школе учились ткачеству и плетению кружев. Ох, ох, ох! Сколько раз ее поднимали среди ночи с постели и она шла кого-то спасать — попавшегося воришку от жестокости полицейских или полицейского от расправы потерявших терпение рабочих. Она была гражданкой Чили и не раз получала награды от благодарного правительства. Ей случалось ходатайствовать перед самим президентом о помиловании полупомешанного рудокопа, осквернившего церковную святыню, или доведенной до отчаяния девушки, утопившей в колодце свое дитя. У тех, кто всю жизнь отдает добрым делам, тоже бывают свои периоды слабости. Они твердо уверены; нет ничего более пошлого, чем ожидать благодарности и восхищения от людей, но иногда они позволяют себе поддаться убаюкивающему соблазну жалости к себе. «Хоть бы кто-то сделал что-нибудь для меня, и притом бескорыстно». Миссис Уикершем успела утратить непосредственность душевных движений, когда-то побудившую ее заняться благотворительной деятельностью. А что хуже всего, ее стали раздражать женщины — женские разговоры, женская манера цепляться за любую надежду, любой повод к тревоге, и то и другое преувеличивая, женская беспомощность в случаях, когда приходится выбирать меньшее из двух зол. И как все, в ком решительный нрав сочетается с преимуществами житейского опыта, она сделалась нетерпима к проявлениям независимости у других. Она плохо ладила с самой собой. Она впустила цинизм в свою душу, стала зла на язык. Она решила прожить остаток жизни в свое удовольствие — а доступных ей удовольствий оставалось всего лишь два: распоряжаться по мере сил чужими жизнями и слыть «оригиналкой». Она создала себе личину но собственному вкусу — эта занятная, чуть страшноватая, мудрая, непогрешимая и достойная восхищения миссис Уикершем. Человеку не свойственно стоять на месте: одни двигаются вперед, другие назад. Словно бросая вызов чужому мнению, она спускалась по вечерам в столовую, декольтированная по моде середины прошлого века, и не пыталась скрыть, что по ее щекам прошлась заячья лапка с румянами.
И вот тут-то в «Фонде» появился Джон Эшли и предложил свою дружбу.
— Мистер Толланд, вы играете в карты?
— Играю, сударыня.
— Мы иногда садимся за карты в курительной комнате. Играем на деньги. Но я не желаю, чтобы говорили, будто у меня тут игорный притон, поэтому ввела строгое правило: ничей выигрыш не может превысить двадцати долларов. Все, что сверх этой суммы, кладется в кружку пожертвований на нужды моей больницы. В «dos picaros»[72] играете?
— Да.
— Так приходите сегодня в курительную после одиннадцати.
Наконец-то Эшли мог взять в руки карты, не боясь обнаружить свое мастерство игрока. Его партнерами были люди богатые — путешественники, земледельцы из долин, промышленники, занимавшиеся добычей селитры и меди. Он их всех обыграл. Он и миссис Уикершем обыграл тоже. На стене висела большая грифельная доска. В конце вечера миссис Уикершем записала на ней сумму, очистившуюся в пользу больницы. Глаза ее заблестели. Сто восемьдесят долларов! Рентгеновская установка стоила шестьсот!
Несколько дней спустя:
— Мистер Толланд, вы обычно завтракаете на крыше?
— Да, сударыня.
— Поднимитесь туда нынче вечером после обеда. Я вас угощу добрым ромом. Посидим, потолкуем.
Так положено было начало их долгим беседам под звездным небом. Они сидели лицом к горной гряде, разделенные низеньким столиком, на котором стоял кувшин с ромом. Неоглядные пики, величественные, древние как мир, словно притихли в ожидании катаклизма, который, быть может, низринет их с высоты, расколет или покорежит. Была весна. Время от времени слышалось вдалеке глухое урчание, нотой словно бы раскат грома и наконец гулкий удар — сорвалась где-то тысячетонная глыба. Всходила луна, заливая сиянием небо и землю. Пики оживали, казалось теперь, они качаются и поют — черные башни, высящиеся над застывшими в безмятежности плато. («Если бы Беата могла это видеть! Если бы дети могли это видеть!») Разговор шел о Чили, о первых разработках рудных месторождений в Андах, о больницах и школах, о людях — мужчинах и женщинах. Эшли, уставший за день, с благодарностью нежился в тепле дружеской беседы, но миссис Уикершем была разочарована и недовольна. Любопытство теснило в ней все прочие чувства. Кто этот человек? Какова его история? Чем больше она привязывалась к нему, тем сильней ее задевало это упорное нежелание что-либо рассказать о себе. Она как-то наведалась к нему в комнату в его отсутствие и перебрала все его вещи. Среди них нашлись две-три выцветшие фотографии; на одной высокая молодая женщина стояла около пруда с младенцем на руках, трое детишек постарше сидели у ее ног. Даже на полустертом голубом отпечатке все тут словно дышало здоровьем, красотой и гармонией. Миссис Уикершем долго рассматривала фотографию с каким-то горьким чувством. Любого другого она — «гроза», «варварка» — не поцеремонилась бы спросить прямо: «Что вас привело сюда, одного, без семьи? Зачем вы солгали мне?» — но Эшли она побаивалась. Временами злая обида переполняла ее до того, что она готова была выставить его из отеля. В своей жизни она часто имела дело с людьми, укрывающимися от полиции, но ни разу ей не пришло в голову, что и он может быть из таких. На пятнадцатый вечер пребывания Эшли в «Фонде» за обедом возник оживленный разговор о «ловле крыс»; назывались имена, знаменитые в прошлом или в настоящем, обсуждалось, сколько можно заработать на поимке преступника, каким умом и бдительностью должен обладать тот, кто за это дело берется.