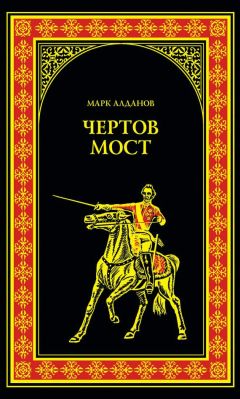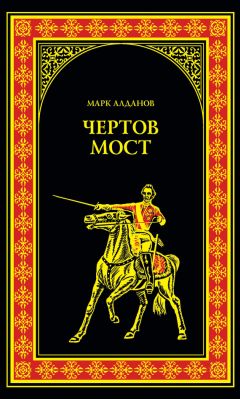Тулепберген Каипбергенов - Сказание о Маман-бие
Гаип-бахадур, приподняв черную шапку, почесал свою лысину.
— Гаип-бахадур мамановец — пускай подумает хорошенько.
— Мужественный джигит рода ктай, Курбанбай-бий, а ты что скажешь? Или с матерью сначала посоветуешься?
Вопрос этот больно кольнул Курбанбая, и он заносчиво крикнул:
— Мы из тех, кто для народа родной бабушки не пожалеет!
— Ну что же, Гаип-бахадур. Задумали мы общими силами сшить большой кунградский халат. Рассчитываю, что ты поможешь хоть одну полу этого халата собрать.
— Все это так, Есенгельды-бий, — тянул Гаип-бахадур. — Никто не скажет, что вы не дело говорите. Так ведь надо бы срок дать, обдумать все хорошенько. Каждому со своим аулом надо посоветоваться. Я-то лично готов жизнь за народ отдать…
Этот совет показался Есенгельды-бию разумным. Еще раз обвел он глазами сидящих и понял: надо дать срок — и велел им через неделю, к будущему четвергу все обдумать, а сегодня разрешил расходиться.
Неделя эта черной тучей нависла над аулами, не слышно стало ни песен, ни смеха, поползли слухи — один другого нелепей и страшнее. Нашлись и такие люди, которые, припомнив все неудачи Маман-бия, искренне уверовали, что он и есть вражеский лазутчик, виновник всех бед. Особенно усердно поносили его те люди, кто получил обещанных сорок плеток за невыполнение брачного указа: «Маман — изменник! Маман — бездельник! Маман — неверный, чистое от поганого не отличает!»
В самый разгар смуты, когда бии, обещавшие свою поддержку Есенгельды, уже потеряли надежду собрать народ воедино, появился Маман-бий. Обросший волосами, худой — кости да кожа, — он наутро после первой ночи, проведенной дома, узнал от пришедших к нему друзей и товарищей о страшной новости, привезенной Есенгельды.
— 0-о-х уж эти хивинские шакалы! — только и сказал он, отлично понимая, что, если скажет что плохое о Есенгельды-бие, это будет как если бы подбросил сухих щепок в костер, родовая вражда жарким пламенем разгорится. И он решил прежде всего с глазу на глаз поговорить с Есенгельды-бием.
А Есенгельды был очень доволен, что, расходясь от него, бии не посмели открыто с ним спорить. Он тогда шепнул про себя: «Стоило только слово «Хива» произнести, как люди угомонились. Волшебный город!» Бий всю неделю до четверга отдыхал от трудов праведных, с великой думой о благе народном, лежа на боку в своей юрте.
Маман-бия он принял и головы не повернув в постели. Удивленный, что Есенгельды так быстро забыл о всяких приличиях, Маман, переступив порог, остановился, насупив брови, перебирая в руках плетку.
— Не торчи перед глазами, сядь! — приказал Есенгельды.
— А ты встань и принимай гостя как положено!
— Ха-ха! Маман! Все еще не понял, кто ты теперь есть, гордишься? Садись же, чего уж там!
— Какое обещание дал ты Амин-инаху?
— А сидя ты разговаривать не можешь? Ну ладно, слушай стоя, разозлишься — скорей уйдешь. Мы даем пятьсот нукеров Мухаммед Амин-инаху, чтобы помочь ему очистить Хиву от йомудов.
— А дальше что?
— Дальше открывается и нам широкая дорога к ханскому трону. Садись же, — сам знаешь: у нас со здешними узбеками одна судьба, из одного моря рыбу ловим.
— Это и так известно. А вот, помогая Амин-инаху, не восстановим ли мы против себя туркмен?
— Вот делать тебе нечего! Чем стоять у дверей, как неверный русский, не поленись — согни колени ради народа, который ты дотла разорил, помогая другу своих русских — тирану Абулхаиру, как будто он каменная гора — наша опора!
— Помогать-то ему надо было, только Абулхаир нас обманул, это верно.
— Мухаммед Амин-инах не обманет!
— Все они, ханы, на одно лицо, приблудному псу подобны!
— Ты что сказал?! — Есенгельды привскочил с постели. — Вон из моего дома, пока крамольные слова твои до инаха не дошли!
— Глаза твои жиром заплыли, Есенгельды-бий.
— Слепец ты, Маман, коли истинно болеешь за народ или хотя бы себя жалеешь, угомонись, моего приказа слушайся. А не то свалишься в яму — не выберешься. Если осталась у тебя капля ума, поймешь: ведь это я тебя от хивинцев вызволил, убить тебя не дал…
— Эх ты, пустозвон! Видно, Амин-инах голову твою тыквой подменил, ветром надутой! Не понимаешь, что ли, что, угождая одному человеку, делаешь врагом нашим целый народ! Брось недостойную эту возню, не соберешь ты пятьсот нукеров, народ не даст!
— Ха-ха-ха! Народ не даст? А народ кто? Народ — я; а ты кто: попугай, всю жизнь одно слово-«русский»- твердящий. Народ теперь понял, на какой закваске ты замешен. Посмеешь много разговаривать — укажу тебе твое место. Подожми хвост и беги в свой аул, да смотри, сиди тихо!
Маман понял, что спорить с этим человеком бесполезно, и, резко повернувшись, вышел, с треском захлопнув за собой дверь. Но только выехал он за аул, на встречу ему показались всадники: Аманкул-бий, Кур-банбай-бий и Гаип-бахадур ехали к Есенгельды с отчетом.
— Стойте! — крикнул Маман-бий. — Зачем едете? Аманкул-бий со своими людьми молча проехал мимо
Мамана, Курбанбай-бий растерянно остановился, разинув рот, а Гаип-бахадур повернул коня к Маману и поздоровался, намереваясь обо всем подробно поговорить.
13
Правду сказал хозяин рыбожарки: заведение его всегда полно народу. И проезжие торговцы, и пешеходы, даже многие горожане наведываются сюда поесть рыбы. У хозяина и за пазухой, и в карманах монеты колокольчиков звенят. Аманлык с утра до ночи покоя не знает, стоит у очага, подбрасывая хворост в огонь. Хозяин нет-нет да и кинет ему кусок подгорелой рыбы. Так он стоя и ест.
Рыбожарка и приют голодных сирот и нищих. Только двери откроются — они тут как тут. Тощие ребятишки — кости да кожа — с черными от сажи лицами дерутся с бродячими собаками из-за рыбных отбросов. Глядя на них, Аманлык даже стыдится своего «благополучия». Он не договаривался с хозяином о жалованье, ничего не просил, и тому нравился молчаливый безответный труженик.
— Эй, каракалпак, — время от времени подбадривает хозяин работника, — мы с тобой о жалованье не договаривались, но ты не сомневайся, в обиде не будешь. Я не из тех проходимцев, что норовят у человека кусок урвать.
И Аманлык трудился еще усерднее, забывая усталость. Вечером как закроется рыбожарка, едет со своим ослом в лес за топливом, иной раз и на ночь там остается, а чуть свет возвращается домой, ведет в поводу осла, которого и не видно из-под огромного вороха сухого джангиля, — одни копытца семенят. Ну, как не уважить таких безотказных тружеников, и хозяин расщедрился, пожаловал Аманлыку старое домотканое одеяло, а ослу новый потник под седло.
Сладкоречивый хозяин не скупился на похвалы, но не давал Аманлыку времени и глазом моргнуть. Работа шла за работой. Некогда было даже Матьякуба-шарбак-ши проведать. Ночами мучила бессонница, — очень скучал по аулу, и совсем бы Аманлык извелся, если бы неожиданно не появился в рыбожарке… Бектемир! Везли они откуда-то со своим хозяином-плотником дерево на арбе, завернули по пути рыбкой полакомиться. Соскучившиеся друг по другу джигиты, никого не видя и не слыша кругом, как обнялись, так и застыли. Хозяин не хотел обидеть дармового своего слугу.
— Видать, односельчане! Нате-ка, покушайте рыбки да за едой и поговорите по душам, — сказал он и дал им три-четыре кусочка рыбы. — А ты, эй, там, как тебя звать, — крикнул он чумазому пареньку с опухшими веками, глодавшему отбросы на помойке, — иди помешай в очаге!
Не зная, с чего и начать, смотрят друг на друга Аманлык с Бектемиром, расплываясь в улыбке.
— Мы ведь в город торопимся, а ты откуда идешь? — заговорил наконец Бектемир.
— Я с тех пор, как ушел тогда из аула, в Бухару ходил, а потом сюда пришел. Алмагуль моя — верный человек сказал — умерла… а я что? У нас в ауле все ли живы-здоровы? Маман-бий где?
— Маман-бий, заботясь о завтрашнем дне народа, собрал нас, джигитов, двадцать человек, да еще четырех умных юнцов захватил и привел сюда, в Хиву. Тут Есенгельды-бий этих четверых в медресе; прйстроил.
— Ну, они в медресе. А сам Маман-бий где?
— С ним здесь ни хан, ни муллы разговаривать не захотели, за то будто бы, что с русскими дружит.
— А потом, потом что?
— Отвел нас десятерых на невольничий рынок, отдал в ученье здешним мастерам, а еще десятерых в Туркмению повел, вроде на баксы учиться — петь там, на дутаре играть и все такое… С тех пор мы друг о друге ничего не знаем. Домой, видно, раньше, чем лет через пять, не вернемся. В прошлую пятницу мы с хозяином ездили в Хиву, видел я там Дауима. Он ведь стремянным у Есенгельды-бия, Дауим-то! А с ним человека четыре-пять хивинцев, все с оружием. Выехали они из города гуськом и уехали.
— Хорошо, если все спокойно, зачем поехали-то?
— Не знаю.
— Сам-то какому ремеслу учишься? Жалованье получаешь?